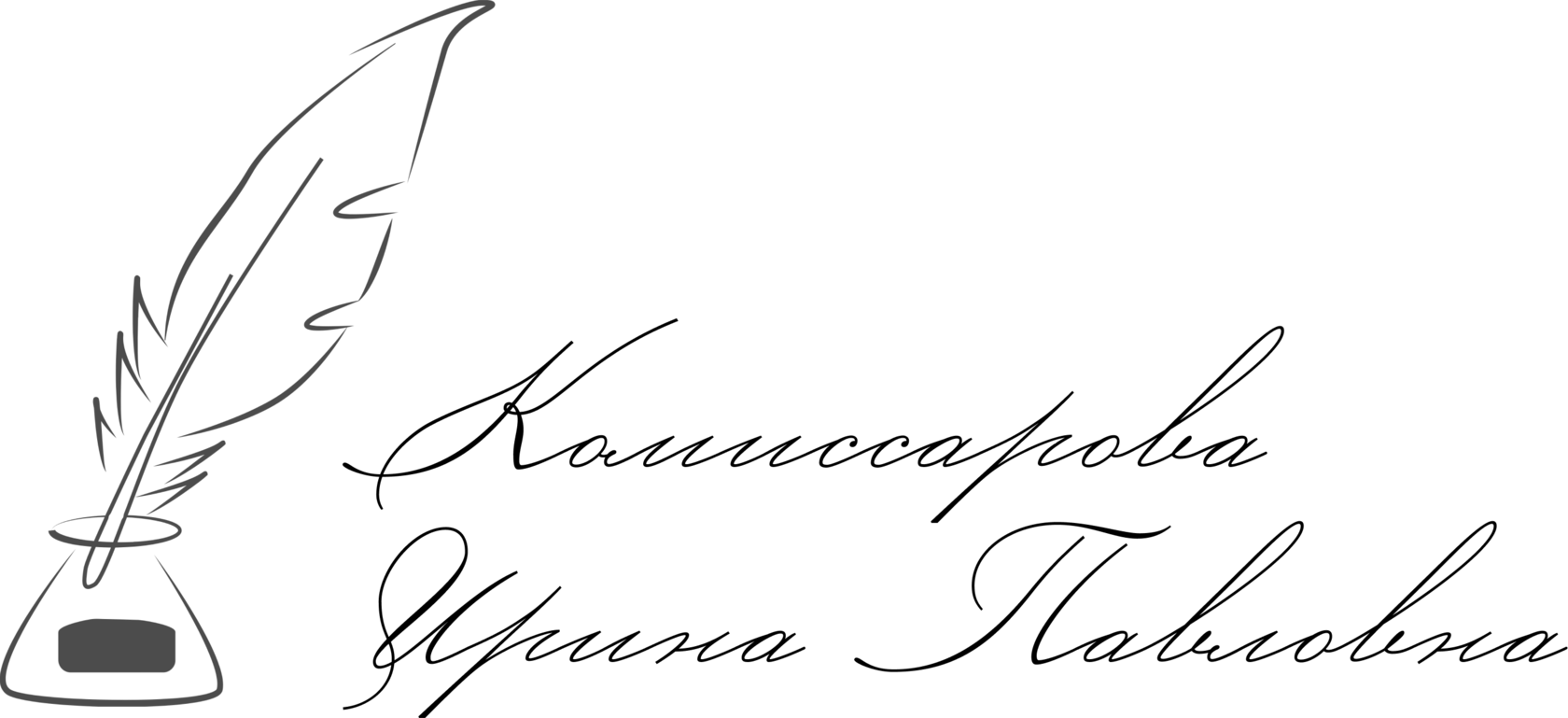Л. С. Утевский и его последняя книга
Предисловие к документальной повести «Молодые годы Ивана Тургенева»
Тургенев всегда оставался искренним, честным художником.
Н.М. Чернов.
Возможно, так и был избран жанр не обычной критико-литературной биографии, с ее ровным, а точнее, равным освещением фактов, а повести — «естественного рассказа» о главном герое, разворачивающегося, однако, необычно — в виде коротких зарисовок, а не единого повествовательного полотна. Этот рассказ, живой и непринужденный, хотя и следует ходу времени, прерывается большими разрывами, да и в самих зарисовках нередки паузы, используется «обратный ход» событий, иногда наше внимание приковано к часам и даже минутам, иногда — к неделям и месяцам. «Зарисовочность» рассказа, как кажется, и позволила автору, с одной стороны, избежать полемики по многим спорным вопросам биографии и творческого пути писателя, а с другой — передать свое понимание его личности — поэта, философа, автора «Sеnilia» и вместе с тем «мастера исторической типизации»[1], возможно, одной из самых мифологизированных фигур в истории русской культуры. Традиционное обоснование своей точки зрения — с сопоставлением фактов, литературных образов и их прообразов, широкой характеристикой литературного процесса и т. д., как в известных популярных книгах А. Труайя и Ю. В. Лебедева, а в свое время Н.В. Богословского[2], учитывая культурную многослойность и переломность предреформенных лет, потребовали бы от автора не одной книги, кроме того, опыт литератора — переводчика художественной литературы — мог подтолкнуть к оригинальному замыслу.
Опуская цепочки событий одной логической связи и создавая таким образом «эффект неожиданности», отсроченные «развязки» нескольких сюжетов автор сводит к ее кульминации — выходу в свет «Записок охотника» отдельной книгой. Сцена грустного недоумения Тургенева из-за отсутствия в ней посвящения Полине Виардо (в виде трех звездочек) становится одновременно и общей развязкой, когда финальные зарисовки прибавляют лишь несколько штрихов к обрывающемуся повествованию. Необычная композиция отвечает общей манере автора — этюдов, набросков. Вместе с тем ясно, что перед нами история художника, история его отношений с самим собой.
В каком-то смысле к процессу чтения этой необычной литературной биографии, создающей впечатления, применим образ «переводной картинки»: только к концу авторского рассказа отдельные сценки обретают свой объем, становятся близки читателю в подробностях. Спасским повесть открывалась, Спасским и закрывается, и последняя картина, как кажется, и есть то выразительное полотно, к которому автор вел читателя: бушует метель, заносит снегом дом, где когда-то было шумно, весело, все обещало счастье, заносит снегом и флигель, где поселился, чтобы тратить меньше дров, начинающий писатель, автор «Записок охотника», наказанный царем за свой «шедевр»[8], немолодой и бесконечно одинокий человек.
Описанию Спасского отведено место во всех биографиях Тургенева. Для Б. Зайцева Спасское — «показательная» русская усадьба, для Ю.В. Лебедева – яркое свидетельство высокого положения в обществе семьи Тургеневых, для Л. Утевского, конечно, и то и другое, и его описание наиболее полно (основанное на архивных документах Лутовиновых), но прежде всего это «парадиз детства», куда не перестает стремиться главный герой, его «возвращения» сюда, в овеянный благоуханием и величием южнорусской природы уголок тишины, – сквозной мотив повести.
По «кинематографическому» принципу «разворачиваются» и две наиболее значимые точки пространства повести, как бы сходящиеся и обретающие «лицо», два ее полюса. Один полюс – художник, с его напряженной внутренней жизнью, другой – власть: сначала то тут, то там напоминающий о себе царь, затем – «персона», глава III Отделения, вежливый и опасный Л. Дубельт, наконец – наследник. То, что в повести второй полюс олицетворен не самим царем, а «вялым» и «добродушным», по наблюдению Герцена, наследником, можно считать удачей автора: личности ничего не могут изменить в неизбежном ходе событий. Все остерегаются и боятся царя, даже его сын. Так же «вяло» и «добродушно», как когда-то он принял прошение о переводе ссыльного Герцена из Вятки во Владимир во время одного из своих наследных вояжей, Александр запретит визиты на съезжую к автору «Записок охотника» – из-за скопления экипажей в неположенном месте, а затем воспримет просьбы близких к себе лиц о прекращении ссылки начинающего писателя. Как отмечал Ю.Г. Оксман, официальные хлопоты Тургенева о разрешении выехать из Спасского в другие свои имения – для участия в дворянских выборах, проходивших в Тульской и Томбовской губерниях, обращения к орловскому губернатору Н.И. Крузенштерну, результата не дали, в Петербурге просьба Тургенева, рассмотренная министром внутренних дел Д.Г. Бибиковым, удовлетворена не была.
Изменением дистанции отмечена персонализация и «героев второго плана», прежде всего матери писателя и Белинского, дружба с которым стала для Тургенева, начинающего литератора, поворотным событием в его жизни. Роль этих людей, к которым Тургенев испытывал глубокую привязанность и отношения с которыми оказались безнадежно испорчены, соединялась с трагической тенью смерти, — с тем, что Борис Зайцев, следуя за самим Тургеневым, назвал «холодком» «пустой беспредельности». Изменение «точки зрения», с которой автор повести смотрит на действующих лиц, значимых в период самоопределения главного героя, — сначала издалека, а затем с близкого расстояния, вводя между этими точками рассказа новые сюжеты и новых персонажей, — показывает не только его мастерство как режиссера своей повести, но и намерение по возможности полно обозначить главную ее тему — выбора молодым человеком жизненного пути, обретающим свое призвание на резких виражах напряженной эмоциональной жизни вопреки всему.
В первой книге Л.С. Утевского обращает на себя внимание его подход к так называемым «источникам», которым передается слово, когда текст развертывается не от тезиса к доказательству, а от доказательства к выводу, который вместе с автором должен сделать читатель. В этом исследовании совсем молодого человека (в апреле 1923 г. ему исполнилось 26 лет) уже ощутима его «писательская манера», хотя он еще не стал ни писателем, ни переводчиком, — особая значимость в тексте отдельного высказывания, разрывов, пауз, соответственно «игра» с подтекстом, когда создаются несколько уровней чтения, воздействие на эмоции читателя и т.д. Поэтому серьезное исследование, которое представляет собой «Смерть Тургенева», может и не производить впечатление такового, в том смысле, который мы вкладываем в это понятие, имея в виду привычные признаки жанра – обстоятельность историографии, «постановку проблем» и т.д. Тем не менее за одним подбором цитат стоит тонкая исследовательская работа. Если сравнить «Смерть Тургенева» с научными очерками так называемого «интуитивистского литературоведения»[18], связанного с культурой Серебряного века, то эссеисская манера этой книги не покажется особенно странной. Эта культура (исследований Д. Мережковского, Н. Гумилева, О. Мандельштама и др.), принадлежащая определенному поколению, в 1920-е годы еще могла объявлять о себе в научных работах. Особое отношение к выразительным цитатам, их самовысказыванию, определило замысел самой оригинальной книги Л. Утевского – «Жизнь Гончарова» (М.,1931), представляющей собой подборку цитат из самых разных источников, и все же, несмотря на отсутствие авторского текста, «воссоздающей», как указывается в аннотации к переизданию этой книги 2000 г., «сложный и противоречивый путь нравственных исканий И.А. Гончарова», – за счет мастерского «монтажа», что принципиально отличает эту книгу от хрестоматий.
Вторая крупная публикация Л.С. Утевского о Тургеневе – «Жизнь Тургенева» – предваряет детгизовское издание избранных произведений писателя (под редакцией Б.М. Эйхенбаума, 1936 г.). В этом очерке, написанном в обычной для подобных очерков манере, обозначен один из «узлов» будущей повести «Молодые годы Ивана Тургенева» — нестандартная для своего времени трактовка личности Варвары Петровны, матери писателя, с которой все больше сливалась тень героини рассказа «Муму», ограниченной жестокой крепостницы. В очерке Л.С. Утевского она предстает незаурядной, образованной для своего времени женщиной, эмоционально и литературно одаренной. Автор приводит несколько цитат из ее переписки с сыном, разделяя мнение С.М. Малышевой, первой в 1915 г. поставившей вопрос о влиянии матери на становление писателя.
В какой-то мере проясненная учеными «загадка» особых отношений Тургенева с матерью, не единственная в его жизни, еще раз убеждает в необходимости публикации научно-популярных биографий писателя, тем более, что «годы юности И.С. Тургенева представляют для нас “почти полный провал в его биографии”», как пишет Е.Н. Левина, цитируя работу 1926 г. С. Орловского, изданную в Праге. Такая ситуация сохраняется и в современной научно-популярной литературе: в упоминавшихся книгах Анри Труайя и Ю.В. Лебедева, рассчитанных на широкую читательскую аудиторию, этот период характеризуется бегло, между тем это было поворотное для И.С. Тургенева время, время его учебы в Московском, Петербургском и Берлинском университетах, время самоопределения и выбора жизненного пути.
В тяжелое послевоенное время заработок приносили переводы. До конца своих дней Л.С. Утевский не переставал заботиться о младшей дочери, бывшей жене и ее сыне от второго брака, отец которого Н.О. Комиссаров, преподаватель физики в высших учебных заведениях, умер от сердечного приступа в феврале 1942 г. на ст. Кобона, покидая блокированный город вместе со свояченицей и ее детьми[26]. Только после войны с Львом Утевским пожелал восстановить контакты старший брат Борис Утевский, к этому времени видный юрист, специалист в области исполнительного права и криминологии — доктор юридических наук и профессор. На заре укрепления советской государственности, в 1924–1934 гг., он был старшим инспектором-консультантом управления местами заключения НКВД и НКЮ РСФР, а затем, в 1934–1935 гг., прокурором отдела Прокуратуры СССР. Б. С. Утевский, участник студенческих волнений 1905 г., скрывавшийся от царского правительства за границей, где учился в Берлинском и Лейпцигском университетах, был убежденным сторонником коммунистических идеалов. Его перу принадлежит, например, работа под названием «Как Советская власть исправляет преступников» 1930 г. Судьбы трех братьев ярко характеризуют эпоху, нивелировавшую обычные человеческие ценности. Возобновленные старшим братом контакты — «спустя жизнь», когда одному было 58 лет, а другому 48, не перешли в общение и дружбу.
Переводческие работы Л.С. Утевского обнаруживают его собственный интерес к «социально-типологическому реализму», вкладом в который, как считается, определяется значение Тургенева для русской литературы. Прежде всего это переводы для собрания сочинений французского писателя Шарля-Луи Филиппа (1874–1909), автора новелл и романов из жизни низших слоев общества, испытавшего влияние Ф. Достоевского, а также перевод «Мачехи» Бальзака (1937 г.), утвержденный в 1948 г. для постановки в Московском драматическом театре М.Н. Ермоловой, шедшей затем по всей стране. Достойно упоминания в связи с этим, что знакомство Тургенева с «Мачехой» Бальзака, как полагают исследователи, сыграло определенную роль в творческой истории «Месяца в деревне».
Вероятно, к непосредственной работе над рукописью автор смог приступить только после «разоблачения культа личности Сталина», когда началась реабилитация «врагов народа», в том числе «космополитов». К 1955 г. обрела очертания и подготовка первого академического издания полного собрания сочинений и писем Тургенева, в которое должны были войти ранее не публиковавшиеся письма писателя. Это собрание увидело свет уже после смерти Л.С. Утевского.
В кружке Николая Станкевича, сыгравшего как идеолог «новой нравственности» огромную роль в истории русской культуры, заметное место принадлежало учителю словесности Тургенева Ивану Клюшникову, поэзии которого и личной судьбе Л.Я. Гинзбург уделила немало внимания в своей монографии «О лирике» (1971 г.). Глухое упоминание в повести И. Клюшникова, еще не сломленного смертью Станкевича, как и отсутствие Е. Шаховской, прототипа Зинаиды из рассказа Тургенева «Первая любовь», о которой не могла без содрогания говорить мать писателя, по существу «проклявшая» за нее мужа, еще раз убеждают в стремлении автора сосредоточиться на главном – поворотных событиях в творческой биографии писателя, а не вычерчивать как можно больше линий из того «реестра, в котором время ведет свою запись». В самом деле, эти два сюжета, если допустить хотя бы эскизное их развитие, разрушили бы продуманную перспективу повести и заставили автора написать другое произведение. Такой же тщательностью в отборе событий для повести можно объяснить отсутствие в ней А.К. Толстого, приносившего на съезжую книги: значимым человеком для Тургенева он станет позже, за рамками повести. Понятно, что и разночтения, имеющиеся в статье «Н.В. Гоголь», написанной для «Санкт-Петербургских ведомостей», и в «Письме из Петербурга», опубликованном в «Московских ведомостях», хорошо известные автору, не упоминаются, поскольку они не существенны для понимания поступка Тургенева.
В повести немало деталей, отсылающих к последекабрьской эпохе и собственно проявлениям царизма, сдержанно негативных оценок его имперского стиля, контрастного убогой реальности, — наблюдений, как бы принадлежащих главному герою. Узнаем мы и об испытательной записке Тургенева «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине», которую он пишет при поступлении на службу в Министерство внутренних дел в 1843 г.[50], в которой развивает мысль о верховенстве закона в отношениях между помещиками и крестьянами — в умеренно декабристском духе. Испытательная записка Тургенева, официальная, как ее характеризует автор повести, сопровождающаяся обычными «этикетными» фразами, нужна автору для того, чтобы показать тяжелое настроение главного героя, вынужденного размышлять о правовых проблемах хозяйствования, а затем трудиться в «канцеляриях», с их тяжелой атмосферой в период «полного разгара крепостных нравов и бюрократического самовластия», если прибегать к словам А.Н. Пыпина, когда доносы «развились до сумасшествия». Вместе с тем эта записка и в самом деле не была особенно смелой. Сам царь пытался модифицировать крепостное право, в частности, апрельским Указом 1842 г. «Об обязанных крестьянах».
Упоминание тургеневской записки и ее характеристика отсылают к событиям, связанным с этим указом, допускавшим соглашение крестьян с помещиками, воспринятого крестьянами как освобождение и вызвавшего волнения на местах. Теперь, дабы прекратить волнения, в ведомстве Л.А. Перовского, назначенного в 1841 г. министром внутренних дел, совмещавшего этот пост с постом товарища министра в Департаменте уделов, подготавливались «разъяснения» к этому указу. Материалы для «разъяснений» — о «положении дворовых людей» — собирали, в частности, в Особой канцелярии министра, где служил коллежским секретарем Тургенев. В этой канцелярии велась переписка по преобразованию губернских правлений, земской полиции и т.п. В министерстве Тургенев и знакомится с будущим создателем знаменитого словаря, полковником В.И. Далем. Разъяснения, громко названные Л.А. Перовским «Об уничтожении крепостного состояния в России», появились в 1845 г. В них хотя и рекомендовалось не отрывать крестьян от земли, предлагалось расширить полицейский надзор помещиков.
Понятно, что Тургенев не мог не знать, чем занималась канцелярия, в которой он служил, но из повести мы выносим представление лишь о тягостности для будущего писателя «чиновничьей» работы. Невозможность подобной деятельности для Тургенева его «друг навсегда» П. Анненков объяснял в присущей ему манере: не сложившимися отношениями с «начальником-педантом» Далем, как тургеневский критический отзыв о пьесе «Смерть Ляпунова» С.А. Гедеонова, поклонника Полины Виардо, считал появлением ревности, хотя пьеса действительно была слабой. Историк А.А. Корнилов (в «Годах странствий») видел причину плохих отношений Тургенева с Далем в «беспечности» начинающего «канцеляриста»: «мудрено ли, что Даль сердился на него?». Так или иначе, но несовместимость творческой личности с самой атмосферой царской бюрократии, доходящей на низовых уровнях до бессмыслицы, могла играть в этом, как показывает нам автор, не последнюю роль. По замечанию А.В. Головнина, сына мореплавателя и будущего министра просвещения, служившего в той же канцелярии, «бюрократический труд департаментов и канцелярий» не стоил «пера» Тургенева и было бы жаль его тратить на подобные занятия, а С.И. Мещерская, не слишком высоко ставившая основную массу чиновничества, беспокоилась, когда Тургенев был уже арестован, из-за его возможных контактов и разговоров, опасных в такой среде.
Преподаватель христианский.
Он в вере тверд, он духом чист,
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист,
И скромен он по убежденью,
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.
В связи с темой царизма, его бюрократизмом, протекционизмом и т.д., как бы растушеванной в повести, менявшегося с течением времени мало, красноречив карьерный взлет Е.М. Феоктистова, когда он получил место чиновника особых поручений при упоминавшемся А.В. Головнине, в 1862 г. назначенном вместо Е.В. Путятина министром просвещения: в обязанности Феоктистова входили «царские обозрения» – ежедневные обзоры газетных и журнальных статей для государя. Исполнение этой роли, немыслимой для Тургенева и его друзей, действительно требовало, можно сказать, таланта «двоедушия», что послужило поводом для эпиграммы на Феоктистова, написанной поэтом Н.Ф. Щербиной:
Я тебя не упрекну:
При сочувствии к Каткову
Служишь ты Головнину[60],
Для такого ж человечка
Казнь народная строга, –
Говорят: «Он богу свечка,
Да и черту кочерга»…
Известно, что «Зальцбруннское письмо» Белинского было «гневным ответом» на личное письмо Гоголя, в котором причину резкого отзыва критика о его новом произведении «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь видел в «рассерженности» их «правдой». Самовлюбленность Гоголя отмечали многие современники, в том числе А.В. Никитенко, хорошо его знавший (сам по себе примечательная фигура «переходного» поколения, как определял свое поколение Белинский[62], – профессор русской словесности и цензор из крепостных, освобожденный благодаря участию в его судьбе декабристов, еще до восстания, о чем он подробно рассказывает в своих дневниках). Особенно, как пишет Никитенко, в Гоголе поражало неумение теоретизировать, что и продемонстрировали его «Выбранные места», с их глубокой религиозностью, тяжелыми предчувствиями страшного будущего и надеждой на облагораживающую роль женщины в историческом процессе, в конечном счете как бы оправдывавшего крепостное право, что для такого человека, как Белинский, было безусловным «предательством истины», «защитой кнута» и «татарщиной». Как утверждал в одной из своих лекций по русской литературе В. Набоков, «Гоголь явно отстал от века».
В свободной эпистолярной полемике между Белинским и Гоголем (оба они находились за границей, и их письма не перлюстрировались) резко обозначилось противостояние западников и славянофилов, причем в «крайних» своих формах – социал-демократии и правого славянофильства в духе С.С. Уварова с его притязаниями на истинный патриотизм. Впрочем, это произведение Гоголя не понравилось и славянофилам. Но для нас здесь важно другое: именно «знаковое» письмо Белинского, «знаковое» на века, на которое обращал внимание даже вождь мирового пролетариата, использовавшееся в качестве основного документа обвинения в деле петрашевцев 1849 г. («за распространение этого письма выносились смертные приговоры»[63]), оказывается средством психологической характеристики главного героя. Автор не цитирует ни само знаменитое письмо, ни «рядоположенный» ему новый рассказ Тургенева «Бурмистр», тоже написанный в Зальцбрунне, с его «ужасающими сценами крепостного быта», подразумевается, что читателю известно их содержание, мы узнаем лишь об отношении главного героя к письму и его автору: Тургенев отмечает вид исторического документа — «бумажек», которые его смертельно больной друг прячет в карман старого сюртука, и понимаем, что он восхищен и растроган. Он также всей душой не приемлет «предательства истины», «защиты кнута», столь же далек, как и его друг, от оправданий царизма. Здесь, в их умах и сердцах, свершаются важнейшие события!
Собственно, через внутреннюю жизнь своих героев автор и подводит нас к пониманию их отношений. Прежде всего, за границей в политическом темпераменте «западника» Белинского появляется новая грань: он изнывает от скуки», вместе с тем становится ближе к Павлу Анненкову, в котором соединялись интерес к западной культуре, огромная эрудиция и одновременно тоска по «всему московскому», какое оно есть, — черта, которой мы удивляемся вместе с главным героем, более последовательным в своем неприятии царизма, хотя и не увлекавшимся революционными идеями. П. Анненков как раз перед приездом в Зальцбрунн получил от Маркса письмо с критикой Прудона за «сентиментальный социализм», сильно на него повлиявшее. Содержание этого письма, надо полагать, стало известно и Белинскому. Автор не упоминает об этом письме, но отмечает подробность того же ряда – своего рода антипатию критика к Полине Виардо, связанную с его предубеждением против «трескучей любви» «мальчишки» к иностранке и обусловленную, видимо, тем, что исследователь Б.Ф. Егоров назвал «имперскими убеждениями» критика. Справедливость взгляда автора на внутреннюю навигацию «охлаждения» Белинского к Тургеневу подтверждают слова самого Белинского, произнесенные очень скоро, несколько месяцев спустя после возвращения на родину: перед смертью, по свидетельству его жены, он обращался не к родным и друзьям, а к «русскому народу (курсив мой. – И.К.).». На политизацию дружб Белинского автор уже обращал внимание, отмечая «теплый интерес» к старому другу Михаилу Бакунину, сменивший длительное охлаждение после появления в 1842 г. статьи Бакунина «Реакция в Германии», с ее «блестящим анализом определяющейся революционной ситуации в Европе».
Повод к разрыву, инициатором которого выступил Белинский, может показаться нам надуманным – «юный друг», несмотря на обещание, не приехал проводить его в путешествие домой, однако в атмосфере воспринятого всеми кружковцами романтического «культа» дружбы, требовательной и даже ревнивой, особенно у Белинского, с «горечью всего его существа», по словам А. Никитенко, не успевающего воплотить в жизнь самое для него сокровенное, такая небрежность могла быть воспринята трагически. Раскаяние Тургенева, не предполагавшего, насколько Белинский был близок к смерти и насколько тяжела для него мысль о незавершенности своей миссии, раскрыто автором как переживание все того же «холодка» «беспредельности», «бездны», и терпеливого душевного труда, не приведшего, однако, к восстановлению дружбы. Тем же терпеливым душевным трудом, как показывает автор повести, отмечены отношения главного героя с матерью, братом, Татьяной Бакуниной и т.д. Видимо, этой особенностью Тургенева объяснялось и безропотное переписывание заново произведений, изуродованных в цензуре. В «Воспоминании о Белинском» Тургенев выразительно рассказывает об «окровавленных корректурах»: «Пусть читатель сам посудит: утром тебе, может быть, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унизительные объяснения, оправдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор…».
При всем внимании автора к дружбе Тургенева и Белинского в повести создается лишь общее впечатление о ее природе, необходимое для уяснения как причин их сближения, так и разрыва, – людей, принадлежащих к разным поколениям, разным социальным слоям, далеких по «политическому самочувствию», но вместе с тем увлекающихся, «наивных» (если прибегать к словам Кавелина, относящего этот эпитет и к Герцену), один из которых был бойцом, другой – «случайным человеком», причем не только в литературе, как его воспринимали до успеха «Записок охотника» («покоривших», по словам Б. Зайцева, Россию), но и в университетах, министерстве, кажется, везде… О зените этой безотчетной привязанности рассказывают зарисовки «парголовского лета», окутанные некой неопределенностью будущего, когда Тургенев и Белинский снимают дачи неподалеку друг от друга и встречаются на прогулках. Болезнь Белинского, раздраженного жизнью за границей, у которого все меньше оставалось сил на работу, в первую очередь эмоциональных, вместе с великой любовью Тургенева к Полине Виардо лишили ее ядра, – так, по-видимому, считает автор повести. Косвенно об этом же свидетельствуют наблюдения их общих друзей: В. Боткин в письме к Герцену 31 августа 1848 г. (ст. ст.), уже после смерти критика, сокрушенно писал, что он ждал его смерти, так как «видел, как этот в высшей степени страстный человек стал ко всему равнодушен, его ничего не занимало», и он умер, по словам П. Анненкова, «совершенно замученный жизнью» (курсив мой. – И.К.).
Зарисовки общения с Белинским, когда друзья не могут не сопоставляться, приоткрывают и начала мифа о «слабости» Тургенева – по контрасту с «сильной натурой» Белинского, как определял ее Герцен в письме к сыну, не довольный «дряблостью» тургеневских «Воспоминаний о Белинском» (появившихся в «Вестнике Европы» в 1869 г.). Этот «сравнительный эффект» в какой-то степени сказывается до сих пор, когда не учитывается, что отношения Тургенева с критиком и другими «демократами», как любые дружеские отношения, носили непосредственный характер, что не исключало идейных расхождений и критики, тем более в эпоху широкого интеллектуального брожения с просветительским подтекстом. Например, Герцен, находясь в дружеских отношениях с молодым славянофилом Ю.Ф. Самариным, стремился перетянуть его на свою сторону[64]. Характерен в этом смысле его первый отзыв о Белинском (1838 г.): «Умный, добрый, прекрасный человек, но если бы бог привел больше не видеться – хорошо бы». Стоит также обратить внимание на мнение о Тургеневе менее требовательного по отношению к нему декабриста Н.И. Тургенева[65], познакомившегося с начинающим писателем в Париже в 1845 г., т.е. в первый приезд И.С.Тургенева туда: «очень неглупый и порядочный человек». Постоянными посетителями Н.И. Тургенева были Н.И. Сазонов, Н.М. Сатин, М.А. Бакунин, Н.И. Мельгунов, Н.В. Ханыков, «наряду с польскими, итальянскими и другими эмигрантами», П.В. Анненков, В.П. Боткин, изредка приезжали Свербеевы[66]. Этот ряд имен заставляет увидеть за скупыми словами «первого политического эмигранта России» не только стиль жизни передовых дворян, но и более справедливую оценку малоизвестного литератора, достаточно самостоятельного как личность.
Главный герой повести не заблуждается относительно своего «друга навсегда», «существа, исполненного глумления», как шутливо он характеризует Анненкова в письмах, его ума, вкуса, а также рубежности 1848 г., когда кровавые события в Париже изменили идеалы многих. Не увлекавшегося социалистическими идеями Тургенева подобный кризис не коснулся, и на фоне увлечения друзей (включая В. Боткина) радикальными социально-политическими теориями, его позиция выглядит «вялой». Соответственно снисходительность по отношению к Тургеневу как к «большому ребенку», на которую обращает внимание автор повести, в разной степени была присуща всему окружению Белинского и питалась скорее политическим темпераментом, чем принципиальными расхождениями друзей в восприятии практики царизма. Соответственно «ребячливость» Тургенева с течением времени уже не отторгалась, а вызывала почти скорбь – по чему-то очень русскому и безвозвратно ушедшему, как к концу жизни у П. Анненкова.
В связи со сказанным становится ясно, что такая характерная для предреформенного времени фигура, как П. Анненков, не случайно получивший от П.Л. Лаврова прозвище «турист-эстетик», как не случайно Герцен по умолчанию отнес Тургенева к «слабым натурам», не мог получить в повести «крупного» плана: весь интересный сюжет русской социал-демократии за границей, которой увлекался «ловец современности», оставлен автором в стороне: во-первых, этот сюжет уводил слишком далеко от основной «линии» рассказа – поисков главным героем себя и своего призвания, во-вторых, только после «многих годов сменяющегося благорасположения и холодности», как характеризовал П. Анненков свое приятельство с Тургеневым, оба они поняли глубокую связь друг с другом, а до середины 50-х годов их отношения были несколько отстраненными, хотя они и находились в одной социально-политической орбите. В определенной мере отношение к Тургеневу лидеров русской социал-демократии за границей, повлиявшее на восприятие его фигуры в последующем, может прояснить, с внутренней его стороны, наблюдение В.И. Кельсиева, публициста и социал-демократа, близко знавшего Герцена: «Герцен и Огарев никогда не отзовутся дурно о человеке, который служил правому (или ими считаемому за правое) делу. Самопожертвование, риск, готовность на все – все искупает в их глазах, отсюда их благоговение к памяти “мучеников 14 декабря”…»[68].
Любопытно, что П. Анненкова, с его патриотизмом, в котором соединялось несоединимое, резко негативно воспринимали не только народовольцы, но и светские интеллектуалы — как «кувшинное рыло». П.М. Ковалевский, сотрудник «Современника», «Отечественных записок» и «Вестника Европы», знакомый И.А. Гончарова чиновник Морского министерства (племянник известных Ковалевских – Евграфа Петровича, министра народного просвещения в 1858–1861 гг., и Егора Петровича, писателя, путешественника и многолетнего председателя Литературного фонда), так и отзывался об Анненкове: «…Пучеглазый, с кувшинным рылом, получивший свой свет от больших солнц литературы, около которых неустанно вращался»[69]. Использование образа Гоголя о многом говорило. Анненков был недооценен: не только как «блестящий биограф» Гоголя, «духовного вождя его юности», личным секретарем которого он был в 1841 г., но и как биограф Станкевича, как первый пушкинист, положивший начало научному пушкиноведению, и, главное, «непревзойденный мемуарист». Мало кто знал, что, несмотря на заурядность собственных писательских опытов, Анненков был серьезным литературным консультантом И.С. Тургенева и А.Ф. Писемского, к замечаниям которого они прислушивались[70]. О нем как умном, «ровном» и непринужденном собеседнике вспоминает Н.А. Тучкова-Огарева. Понятно, что П. Анненков, не сделавший в отличие от своих братьев блестящей карьеры и вместе с тем расставшийся с революционными идеалами молодости, мог казаться современникам более чем заурядным: в новые, оглушающие времена мало кого волновали его «инициативные проекты» – увековечивание памяти Станкевича[71] или взваленный на себя труд по изданию первого посмертного собрания сочинений Пушкина, «которое столкнулось с большими трудностями, поскольку участники трагедии были еще живы». «Заботливость» же Анненкова распространялась на всех, кого он принимал за «душевных друзей», а не только «солнц литературы», в том числе на Н.Н. Тютчева, однофамильца поэта, вошедшего в историю русской культуры лишь в качестве ближайшего друга Белинского. Из повести, хотя в ней и нет прямого «портрета» П. Анненкова, мы выносим представление о нем как значительной и своеобразной личности, а в роли «няньки» Белинского он определенно нравится автору. Появляется в повести и его брат Иван, в будущем приятель и корреспондент Тургенева, служивший под началом генерала П.П. Ланского, у которого братья приобрели архив Пушкина за 50 тыс. рублей с обязательством выпустить 50 тыс. экземпляров.
Несколько большая роль отведена в повести Василию Боткину, когда-то участнику кружка Станкевича, удостоенному восхищенной оценки Герцена в «Былом и думах» – как человек, жизнь которого была устремлена только к «общему»: «интересу истины, интересу науки, интересу искусства», хотя как старший сын и наследник богатейшего чаеторговца он должен был руководствоваться интересами умножения огромного капитала. Это «служение» Боткина, пережившего увлечение «политическим и социальным радикализмом» и Марксом, с которым он состоял в переписке и встречался, не могло не быть очевидным, окрашенное в особые тона темпераментом «маросейского андалузца», как назвал его Герцен после появления в «Современнике» «Писем об Испании» (печатались в 1847–1848 гг.). В своих «Письмах» В. Боткин заявлял о себе как автор ярко западнической ориентации, хорошо образованный, «выдающийся своим эстетическим развитием и тонким пониманием искусства во всех его областях – в литературе, как и в музыке и живописи», по отзыву о нем А.В. Щепкиной, сестры Николая Станкевича, как «верный ценитель прекрасного», который воспринимал его непосредственным, живым чувством в отличие от другого знатока — П. Анненкова, анализировавшего, взвешивавшего, подводившего под свои наблюдения философскую базу[72].
Сама семья Василия Петровича Боткина была заметной в Москве — в общественной, собирательской и меценатской деятельности, «западников на русской подкладке», «связующем звене между европеистами и купеческим народным патриотизмом». Петр Кононович Боткин, отец критика, с большим вниманием относился к друзьям старшего сына, в его доме на Маросейке, по существу дворце, квартировали в разное время и Белинский, и Бакунин, и Грановский, особенно уважаемый хозяином дома; сохранились воспоминания о совместных прогулках в большом саду членов этой семьи и «квартирантов», свидетельства их общения. О Николае Боткине, младшем брате Василия, довольно подробно и тепло как о меценате рассказывает в своих воспоминаниях А.Я. Панаева. Возможно, восхищенное и несколько патетичное отношение друзей к В. Боткину и побудило Е. Феоктистова, чувствительного в основном к масштабу чиновных лиц, назвать В. Боткина в своих мемуарах не только «чудовищным эгоистом», но и циником, стремившимся «прибрать к рукам значительную часть родительского состояния»; понятно, что семью Боткиных мемуарист считает «невежественной и дикой», подобно «всем купеческим семьям того времени».
Василий Боткин получает в повести «крупный» план: в одной из глав он показан как трогательный брат, что еще раз указывает на тот «множитель», который «держит в уме» ее автор, — душевный строй его персонажей: их сердечность / холодность, искренность / фальшивость, благородство / низость и т.д. Атмосфера веселой, т.е. умной доброты, витавшая в семействе Боткиных, которую дает почувствовать автор повести, действительно отличала эту дружную и религиозную семью, насчитывавшую 14 детей от двух браков Петра Кононовича Боткина. После его смерти в 1853 г. главой семьи становится Василий. Считается, что его влияние на братьев и сестер было значительным, в том числе на Сергея (род. в 1832 г.), в будущем выдающегося клинициста, именем которого названы больницы в Москве и Санкт-Петербурге, широко образованного и незаурядного по своим человеческим качествам. Есть свидетельства контактов Сергея Боткина с Герценом. Сестры Боткины, появляющиеся в повести, — Мария[73], будущая жена А.А. Фета, на венчании которой в Париже в 1857 г. шафером был И. Тургенев, и, вероятно, Екатерина, будущая жена Ивана Васильевича Щукина, мать знаменитых братьев Щукиных. Сын Сергея Петровича Боткина Сергей, также медик, был женат на дочери П. Третьякова Александре, ему принадлежит большой вклад в сохранение работ художников «Мира искусства»[74]. Другой племянник Василия Боткина Евгений Сергеевич, лейб-медик Николая II, отказался покинуть царскую семью и был расстрелян вместе с ней.
Гуманизм и терпимость Василия Боткина, к сожалению, как пишет А.Я. Звигильский в статье, предваряющей издание 1976 г. его «Писем из Испании», не стали предметом внимания в советском литературоведении. Исследователь показывает безосновательность сплетни о «вторичности» «Писем из Испании», т.е. их компилятивности, подхваченную Феоктистовым. В том же издании в статье Б.Ф. Егорова раскрывается жизненный и творческий путь Боткина как человека новой эпохи, хотя, по условиям времени, Егоров и порицает его за «либерализм». Имеются в виду новое самочувствие, новые нравственные императивы, несовместимые с феодальной практикой царизма[75].
Степень близости между друзьями, как это принято в повести, не обсуждается, главным остается поиск героем себя, но как бы опосредованный общим регистром по-новому чувствующих людей разных поколений. Примечательно, если говорить о композиции повести, что «линии» «фоновых» героев, как, например, Василия Боткина, неотторжимы от основного действия: этот персонаж получает «крупный план» ко времени очевидного тупика в отношениях Тургенева с матерью, а в качестве «фонового» персонажа призван оттенить характер главного героя, чуждого поэтике «чувственных удовольствий», которая, как отмечает большинство мемуаристов, могла увлекать В. Боткина и заслоняла для них его дарования. Даже сдержанный Грановский порицал Боткина за винопитие и неуемное веселье во время одной из их встреч, не принимая во внимание причину такого поведения – отказ, хотя и вежливый, в руке Александры Бакуниной, влюбленной в Боткина. По-видимому, родовитые Бакунины не могли позволить дочери перейти в купеческое звание, как произошло бы согласно закону, и в октябре 1844 г. она вышла замуж за Гаврилу Петровича Вульфа (род. в 1805 г.), тверского помещика, двоюродного брата В.Н. Вульфа, приятеля Пушкина. Как видим, автор повести взвешенно подходит к мемуарной литературе, но, по условиям главной своей задачи, стремится лишь к «узнаваемости» тех или иных исторических лиц, а не к проработке их «образов». Стоит помнить, что повесть писалась задолго до появления серьезных работ о Павле Анненкове, Василии Боткине и др., но их «линии» еще раз убеждают в особой авторской интуиции, которая, как известно, одна из масок эрудиции, что и позволяет автору увидеть живых людей сквозь напластования времен, так сказать, в реалистической перспективе, если прибегать к искусствоведческому термину.
Собственно, «болевые точки» расхождений главного героя с самим собой – художника, убеждения которого не строились, а вызревали, и интересуют автора, потому для повести характерно внимание не к тому, что можно было бы описать (к примеру, безусловно имевшие место между друзьями, принятые даже на светских собраниях «философские» и «политические» дискуссии[76]), а к тому, что необходимо – в рамках его замысла — «вскрыть», т.е. к духовному и душевному опыту Тургенева, к тому, что он сам определял словами «срасталось» / «не срасталось», приблизившись таким образом, хотя бы в общем, к особенностям его восприятия. По словам Л. Гроссмана, попытавшегося их сформулировать, он был «одним из самых грустных мыслителей», «созерцательным художником, в котором бился нерв журналиста»[77], осознающим контраст «космической пустоты и человеческой неприглядности», заслоняемых лишь «евангельской действенностью или радостями творчества и цельной любви»[78]. В этом плане представляет интерес зарисовка путешествия Тургенева в Неаполь вместе с другом Станкевича Александром Ефремовым, тоже студентом Берлинского университета, – «Ефремычем благодатным», «добрым и веселым малым», «чудесным человеком». Вместе с Ефремовым Тургенев приобретает тот особый душевный опыт, запас «вечно дорогого», который будет помнить всю жизнь: переживание красоты, гармонии, откровений ума – опыт, заставлявший стремиться в «лечившую» душу Италию. Таким образом, дружба Тургенева с Белинским по многим причинам не могла не дать трещину, у Боткина это произошло раньше.
Гипотезу автора повести о причинах охлаждения Белинского к Тургеневу, подтверждают и обстоятельства перехода плетневского «Современника» в руки Н. Некрасова и И. Панаева. Анализируя письма И.И. Панаева к Н.Х. Кетчеру, А.И. Герцену, Т.Н. Грановскому и т.д., Ю.Г. Оксман отмечает: «Материалы эти очень отчетливо характеризуют политическое расслоение в рядах передовой московской литературной общественности, демократически-социалистическое крыло которой (Герцен, Огарев) объединяется вокруг Белинского в “Современнике”, а либерально-буржуазное (Кавелин, Боткин, Корш, Грановский) фактически предает Белинского своим отказом от разрыва с “Отечественными записками” и демонстративным участием в обоих журналах»[79]. В конце концов, правда, не без усилия над собой, как мы узнаем из повести, Тургенев тоже начинает сотрудничество с «Отечественными записками», но не по идеологическим соображениям: «Современник» не платит ему за «охотничьи рассказы», а других средств к существованию у него нет.
«Последнюю» точку, отсроченную во времени повести от разрыва Белинского с Тургеневым, ставит в понимании его внутренних причин «Письмо» Тургенева в память Гоголя, замыкающее «гоголевский мотив». Этот «мотив», как и пушкинский, входит в повесть исподволь, обретая объем по мере развития основного действия. Примечательно, что он открывается не тем, что Тургенев был слушателем лекций Гоголя по истории в Петербургском университете, как можно было бы ожидать, а более поздними событиями – увлечением Тургенева новым жанром «физиологических очерков», которыми, как известно, «заболела» русская беллетристика в рамках «гоголевского периода» развития литературы. Это еще раз указывает на главную тему повести – поиск главным героем своего призвания. Потому мы не узнаем о лекторе Гоголе, оказывается достаточно впечатлений от общей атмосферы в Петербургском университете. Такой отбор фактов применительно к повести, с ее замыслом, историчен: не достигший совершеннолетия юноша-провинциал, впервые столкнувшийся с «нестроениями» жизни в родительской семье, из-за чего вынужден переехать в чиновный Петербург, не находит здесь ни друзей, ни «живой мысли» (в том числе, видимо, в лекциях Гоголя), увлекается Байроном, до осознания себя художником гоголевской школы еще очень далеко.
По воспоминаниям Д.В. Григоровича, дебютировавшего одновременно с Тургеневым, после 1840 г. «в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим названием “Физиологии”; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило парижское издание “Французы, описанные сами собою”. У нас тотчас появились подражатели. Булгарин начал издавать точно такие же книжечки, дав им название “Комары”; …один из них — “Салопница” — был удачнее других. Булгарин гордился тем, что внес в русский лексикон новый термин; …Некрасову, практический ум которого был всегда настороже, пришла мысль издавать что-нибудь в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: “Физиология Петербурга”. Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться…». Так появился рассказ Д.В. Григоровича «Шарманщик»[80].
Тургенева, начинающего поэта и драматурга, не реализовавшийся план «петербургских зарисовок» подвел к созданию «Записок охотника», о чем, как упоминалось, довольно подробно в повести рассказывается. Почеркнуто и то, что Белинский не принял часть рассказов «Записок охотника» с их «этнографической» стихией диалектной речи, не терпевшего даже намека на славянофильство. По словам Н.М. Сатина, Белинский превращался в Марата философии, коль скоро речь заходила о борьбе со славянофилами, сопротивляясь «соглашению» с ними, даже с «левым» их крылом, к которому в 1844 г. были близки Грановский и Герцен. За «склонность» к славянофильству Белинский постоянно журил «благородного юношу» Д. Кавелина. От «мальчишки», т.е. Тургенева, критик не переставал ожидать настоящего слова, которое, по его мнению, так и не было произнесено. Между тем Н. Кетчеру «беспощадная война с юродивыми честно-подлыми славянами» (как он называл славянофилов) не помешала высоко оценить «охотничьи» рассказы Тургенева. Таким образом, вопрос о разрыве друзей – это также вопрос о смене эпох в культуре, вопрос рождения новых средств выразительности[81].
Несмотря на ожидаемую в рамках повести перекличку «Зальцбруннского письма» и «Письма из Петербурга» Тургенева в память «лакейского писателя» Гоголя, тургеневское «Письмо» поставлено автором в другой ассоциативный ряд, не политического характера: автора интересуют мотивы, побудившие Тургенева любым способом как можно скорее опубликовать свою статью. Эти мотивы в повести раскрыты: сердечное сочувствие болезни гениального писателя, наследником которого он себя ощущает. Такое самоощущение не было надуманным. Влияние Гоголя на художественный метод Тургенева – признанный учеными факт, ярко проанализированный применительно к его драматургии Л.Ю. Лотман в ее статье «Драматургия Тургенева». Сам Гоголь в авторе «Записок охотника», когда был опубликован основной их состав, видел «талант замечательный», обещающий «большую деятельность в будущем», как он сообщал в письме П. Анненкову 26 августа (7 сентября) 1847 г. [82]
Внимание автора к обстоятельствам и мотивам написания двух исторических документов – политического памфлета и статьи художника – «масштаб», который автор придает этим событиям, убеждают в том, что на их примере действительно можно уяснить и приметы эпохи, и основания «странных», на первый взгляд, дружб того времени. В их резонансе оказываются прежде всего зарисовки второсортных лечебниц, куда на деньги друзей приехал лечиться первый критик России, еще надеявшийся поправить свое здоровье, картины «скитаний» молодого Тургенева по Европе, не располагавшего средствами для комфортной реализации своей «культурной программы», носящегося по Европе будто по «казенной надобности» или живущего в плохонькой гостинице впроголодь, их волнения, показанные «крупным планом» в скупой на подробности повести, которые очерчивают еще одну разграничительную линию из того «реестра, в котором время ведет свою запись», – между системой и человеком.
В связи с «судьбоносностью» статьи Тургенева в память Гоголя для его будущего —арестом, ссылкой, а затем «полуэмиграцией», а также большим вниманием автора повести к событиям, предшествовавшим ссылке, нужно подчеркнуть, как это акцентирует автор, что арест начинающего литератора, а в свое время – Герцена и даже И. Аксакова, далекого от революционных идей, основывались на перлюстрации их личной переписки, превратившейся в повседневность в рамках борьбы царя с инакомыслием (дело «По письмам: от Никольского к Ивану Сергеевичу Аксакову, от Ивана Тургенева к нему же, Аксакову, и от Тургенева к Василию Боткину насчет смерти литератора Гоголя. Начато 15-го марта 1852 г. На 126 листах», хранится в РГАДА, ф.109. Перлюстрация переписки Тургенева продолжалась и во время ссылки.
Белинский избежал в свое время ареста (как сотрудник московского «Телескопа» из-за появления в этом журнале «Философического письма» П.Я. Чаадаева) только усилиями друзей. Я. Неверов, служивший в аппарате Министерства просвещения и узнавший об опасности, грозящей Белинскому, уведомил об этом Станкевича. Станкевич принял меры к уничтожению в московской квартире Белинского всех бумаг, которые могли его скомпрометировать. Таким образом обыск, произведенный у Белинского (вероятно, 10 ноября 1836 г.), ничего не дал. При досмотре имущества Белинского 15 ноября при въезде в Москву, когда он был задержан по пути из Премухино, также не выявилось «ничего сумнительного». Михаил Бакунин, ввиду «серьезности дела», даже вынашивал план организовать выезд Белинского за границу усилиями Станкевича (учитывая важную роль Бакунина в самом замысле книги Л.С. Утевского, отметим эту подробность). Неверов – тот самый «человек в синих очках» из «Былого и дум» Герцена: «некий магистр нашего университета, расстроивший свои способности философией и филологией», – «умеренный либерал», как пишут о нем в современных словарях. В повести мы знакомимся и с этим человеком, но как с необыкновенным спутником Н. Станкевича, набросан даже портрет Неверова.
Вызов Белинского в III Отделение 20 февраля 1848 г., т.е. когда стало известно о «падении Орлеанской династии» и третьей революции во Франции, с началом в России «зловещего 1848 г.», также был продиктован «секретной информацией» о подрывной работе ведущих органов российской печати», с ее идеями, «чем-то похожими на коммунизм», как значилось в доносах. Н.Н. Тютчев, ближайший друг Белинского, писал: «Стоит только вспомнить начало 1848 г. и репрессивные меры, принятые у нас вслед за февральской революцией в Париже, чтобы понять, какое впечатление должно было произвести неожиданное и загадочное появление жандарма в квартире Белинского»[84]. Таким же «загадочным» было появление жандарма в квартире Тургенева, этому эпизоду посвящена отдельная зарисовка[85]. Разговор с Дубельтом глухо отсылает к связям отца писателя с однофамильцами – Александром и Николаем Тургеневыми, яркими представителями декабризма, младший из которых был заочно приговорен к казни только за дерзкие слова.
В отличие от Белинского у Тургенева не было заботливых друзей, и он мог в полной мере ощутить «беспредельность» с ее жутким холодком, в том числе как художник, вставший, по словам Зайцева, на «очень свежий путь», когда «пора было дать просто, поэтично и любовно Россию»[86], как он это сделал в «Записках охотника», но был отторгнут ближайшим другом и наиболее авторитетным для него судьей. По-видимому, мнение В. Боткина о том, что Белинский к этому времени исчерпал себя как критик, имело определенные основания. В авторе «Записок охотника» Белинский не увидел поэтического дара, сближая Тургенева с «этнографом» Далем, и отзывался о них почти издевательски. Похвала же Герцена стоила начинающему писателю свободы, обратив на него внимание царя.
Определенно независимой личностью был и «сочувствователь» Петр Васильевич Зиновьев (1812–1863), из знаменитой семьи Зиновьевых, богатый помещик, отставной гвардеец, чиновник Министерства финансов, чуть старше Тургенева, емкий и шутливый портрет которого набросан в повести, «истинно крепкая, действительная натура», по словам Белинского. Предполагается, что в его имении недалеко от Клестцов охотился Л. Виардо. Зиновьев был страстным поклонником таланта Полины Виардо, а познакомился с Белинским в качестве «курьера», когда появился у него с письмом из Новгорода от Герцена[89]. Свободомыслящими людьми чувствовали себя и два Комаровых, входивших в ближайшее окружение Белинского: Александр Александрович, преподаватель русской словесности в военно-учебных заведениях[90], устраивавший у себя великолепные обеды, и Александр Сергеевич, его двоюродный брат, окололитературный обыватель, «втершийся в кружок Панаева» (по словам Ю. Оксмана), в повести – Комаришка, тот, кто познакомил Тургенева с четой Виардо. По воспоминаниям И.И. Панаева, А.С. Комаров «приставал ко всем со своим либерализмом, вмешивался некстати во все разговоры политические, ученые и литературные, кормил плохими обедами и поил прескверным вином, клянясь, что это самое дорогое вино… его пустота и легкомыслие превосходили все границы»[91].
В повести упоминается также близкий к Белинскому И.И. Маслов, ставший приятелем Тургенева в более поздние годы, интересная фигура в контексте эпохи. О нем довольно подробно пишет Н.М. Чернов, подчеркивая в характере «ленивейшего из хохлов» дипломатичность: «…Начиная с 1860 года во всякий приезд в Москву писатель неизменно останавливался на Пречистенском бульваре, теперь – дом 10, в квартире своего старинного приятеля, управляющего Московской удельной конторой [в 1850 – 1870-х годах]. Маслов – умен, добродушен, способен понимать искусство изящного… Старый холостяк, богач. В молодости Маслов был сердечно близок Белинскому, а сам служил в это время секретарем у И.Н. Скобелева, коменданта Петропавловской крепости. Многое видел из того, что там происходило. Но – умел помолчать. Со знаменитым генералом М.Д. Скобелевым, внуком коменданта, Маслов был на “ты”, всегда называл “Миша” и вел все его денежные дела. Тургенев был в состоянии оценить редкие человеческие качества И.И. Маслова. Наиболее деликатные нужды поручал только ему»[92]. Упоминает Н.М. Чернов и о стихах, которые Маслов писал «для себя» (они не сохранились) и о том, что Некрасов посвятил ему свою «Тройку», что особенно важно – учитывая содержание этого стихотворения и «непостижимость» многих дружб того времени. В этом смысле интересно, что человеком пишущим был даже начальник Маслова, дед прославленного освободителя Болгарии Иван Никитич Скобелев, творчеством которого интересовался Белинский. Участник войны 1812 г., не однажды раненый и награжденный, он активно печатался, его «Сцены в Москве в 1812 г.» были поставлены в Александринском театре и долго входили в репертуар провинциальных театров. Белинский сочувственно относился к творчеству генерала, хотя понимал, что оно не выдерживает критики. Тургенева произведения начальника Маслова повергали в смущение. Собственно, эта подробность, казалось бы, далекая от фактологии повести, приведена здесь в дополнение к затронутому выше вопросу о разрыве Белинского с Тургеневым: для Белинского отсутствие подлинного дарования у Скобелева искупалось его вниманием к «народной войне» 1812 г., и, вероятно, не столько потому, что показывало в генерале «объективность», эту строну войны не обходил молчанием в своих воспоминаниях даже основатель III Отделения, самый первый жандарм России А.Х. Бенкендорф, приводящий примеры мужества и героизма крепостных, а как часть движения к «гласности» – созданию в стране, живущей, по выражению Герцена, «с платком во рту», «общественного мнения», за которое ратовали все оппозиционеры, включая «честно-юродивых» славянофилов и просто «сочувствователей». Кроме того, мать Скобелева была простой крестьянкой, и начинал он службу солдатом, что отразилось в его творчестве, пьеса «Кремнев – русский солдат» была посвящена его первому наставнику в военном деле. В обществе была известна необыкновенная история женитьбы Скобелева, когда его будущая жена, зная национальные пристрастия Ивана Никитича, нарядилась в народный костюм и приняла участие в праздничных танцах своих крепостных, чтобы обратить на себя его внимание. Возможно, из-за своей службы в Петропавловской крепости Маслов и кажется главному герою повести, чуравшемуся всего официозного, «неопределенной фигурой» в кругу Белинского.
Важно помнить, имея в виду привилегию дворянства на «культурные занятия» и даже моду на них, что Языковы, Зиновьев и Маслов в самом деле могли называть себя ценителями искусств и были людьми широкого кругозора, а по настроению – просветителями. В биографии М.А. Языкова, например, не только управление Императорским стекольным заводом, созданным для нужд двора, но и переводческая работа, организация в 1846 г. «Комиссионной конторы для провинциальных жителей», помогавшей выписывать «Современник», хотя для дворян в ту пору считалось унизительным пускаться в коммерцию, «выставив», подобно купцам, как пишет А.Я. Панаева, «свою фамилию на вывесках». И. Тургенев и П. Анненков принимали непосредственное участие в создании этой конторы. Кроме того, М.Я. Языков основал в Калуге общественную библиотеку, Общество вспомоществования недостаточным студентам и др., а в Новгороде, где он оказался к концу жизни, – первую общественную библиотеку. И.И. Маслов, умерший в 1891 г., завещал 450 тыс. рублей на учреждение сельских училищ в России и 40 тыс. пожертвовал Московской консерватории[93]. Надо думать, что эти друзья Белинского, вошедшие и в жизнь Тургенева, были людьми нового самоощущения, которое тартуская исследовательница Леа Пильд проницательно назвала «комплексом социальной вины». Нередко «литературные сочувствователи» превращались в так называемых «лишних людей» (по словам Герцена – «лишних на берегах Невы»), и, если могли, покидали Россию, как это произошло с П. Анненковым, который с конца 60-х годов появлялся на родине лишь наездами[94]. Между родиной и зарубежьем курсировал даже Николай Свербеев, несмотря на свои заслуги перед империей. Потомки Белинского и вовсе покинули Россию, и т.д. и т.п. В конце жизни преимущественно за границей жил даже «татарин» и «деспот» Н.Н. Муравьев. Таким образом, полуэмиграция стала образом жизни не только для Тургенева. Все эти люди нестандартно смотрели на жизнь, человека и его права. П. Анненков, например, «апеллировал» «к сложной и противоречивой индивидуальности, акцентировал социальную значимость сомнения в противовес демократической догматике и подчеркивал ценность внутреннего мира личности»[95].
В ближнем кругу Белинского находился на время повести и К.Д. Кавелин, знаменитый в будущем историк, правовед, создатель теории русской гражданственности, согласно которой им трактовалось значение Петровских реформ, ровесник Тургенева и его корреспондент на протяжении многих лет, между тем лишь мелькающий на страницах повести, даже не «фоновый» ее персонаж. Это обосновано исторически: «молодой глуздырь», как любовно называл Кавелина Белинский (впрочем, как и другого «умничающего мальчишку» – А.А. Бакунина), посещал его кружок всего 11 месяцев, кроме того, «пришел» в него не осознанно, как Тургенев, а просто возобновил старое знакомство по Москве, когда Белинский, начинающий критик, был нанят к нему в качестве репетитора. И тогда в Москве, и теперь в Петербурге «борьба» родовитого Кавелина, служившего после окончания Московского университета в Министерстве юстиции, заключалась, по его же признанию, в отстаивании перед семьей права на позорную для дворянина ученую стезю, в отличие от военной годную только для разночинцев. Помимо «капельного» кружка Белинского Кавелин посещал салоны славянофилов (Е.П. Елагиной, А.С. Хомякова), западников (П.Я. Чаадаева), наслаждаясь в них «изящным разномыслием», и испытал, как утверждается в литературе, влияние тех и других. Он даже сумел, правда, ненадолго, сблизиться с Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым и М.Н. Катковым[96]. Стоит отметить в связи с этим, что Тургенев в оценке Белинского оказался ближе к Чернышевскому, чем А.В. Дружинину, на что обращает внимание харьковская исследовательница Я.В. Гуртовая[97], что еще раз свидетельствует о независимости его мнений. Был Кавелин и наставником наследника престола (старшего сына Александра II Николая, умершего в 1865 г.) – в качестве преподавателя истории и гражданского права, отстранение от этой должности повлияло на его дальнейшую карьеру и самочувствие. Даже эти факты, подтверждающие глубокое различие двух ровесников, убеждают в избыточности появления Кавелина в повести как самостоятельного персонажа, хотя и представляют интерес сами по себе: ввиду той «мифологичности», которую приобрели фигуры сверстников в реформенное и послереформенное время. Кавелин, например, превратился для «туземной аристократии» в «страшную тень» конца 40-х годов. По свидетельству А.Ф. Кони, его серьезно воспринимали при разбирательстве дела Засулич в 1877 г. как «виновника и, так сказать, отца революционного настроения среди петербургского общества»[98], хотя с точки зрения социал-демократов он был «либеральным мудрецом» (по выражению Ленина), т.е. противником террора и революционной пропаганды. А суть состояла в том, что в столицах помнили письмо Кавелина, ходившее по рукам, с «восторгами» по поводу кончины Николая Павловича, в котором выражалось общее настроение – наступающей «оттепели», по образному выражению поэта Ф.И. Тютчева. Кроме того, Кавелин одним из первых выступил за освобождение крестьян «с землей», что ужаснуло «туземных» дворян[99]. Кавелин, с его тезисом о «первичности внутреннего опыта личности» и идеалом «самодержавной республики», стал в какой-то момент «невидим» для современников, как и Тургенев, о «свалке» на могиле которого Л.С. Утевский написал в своей первой книге о нем. Оба дворянских интеллигента оказались «неформатными» на новом политическом поле, когда освободительная деятельность превратилась в «кусок хлеба», декабристы стали свидетелями собственной политической смерти и наступила эпоха терроризма.
Как кажется, автор повести не мог не размышлять о судьбах этих двух ровесников, сравнивая их, но это сравнение, если бы оно нашло отражение в повести, могло эмоционально сбить читателя с толку, как и более развернутая характеристика Грановского: знакомство с этими учеными и выдающимися людьми своего времени, затронув Тургенева, не повлияло на него как писателя «новой генерации» (по словам Л.М. Лотман), способного видеть жизнь глазами далеких от себя по мироощущению людей, будь то помещик или его крепостной, отдельно взятых, т.е. этически. Достаточно сослаться на переписку Тургенева со старшим Аксаковым во время ссылки, когда были продолжены дискуссии по одному из основных для западников и славянофилов вопросу – о «традиционном родовом быте». В одном из писем к К.С. Аксакову 16 (28) января 1852 г. Тургенев отмечал: «Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите упокоение и прибежище эпоса», он считал, что теории Соловьева и Кавелина содержат «что-то искусственное», вроде «давно прошедших гимнастических упражнений на поприще философии». Определенную «искусственность» теорий славянофилов ощущал не только Тургенев, например, поэт Н.Ф. Щербина в эпиграмме на Н.В. Берга, завсегдатая салона Е.П. Ростопчиной, поэта и переводчика славянских поэтов, остроумно замечал:
Несли мы, Берг, почти что век
Опеку немцев не по силам…
Я слишком русский человек,
Чтоб сделаться славянофилом.
Но если все же продолжить сравнение двух пестуемых Белинским молодых людей, особенно в свете мифа о Тургеневе как несамостоятельном и «двоедушном», мы убедимся не только в надуманности этого мифа, но и в правомерности желания автора еще раз присмотреться к якобы «очевидному»[100]. Любопытно собственное свидетельство Кавелина о его знакомстве с Белинским и занятиях с ним как репетитором: «Насколько он [Белинский] был плохой педагог, мало знающий предмет, которому учил (география, история), настолько благотворно он действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов, уважением и любви к знанию и нравственным принципам. <…> Чтобы понять и оценить это, надо вспомнить время и среду, в которых я жил. Страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных устремлений, тоскливый и рабский биготизм, …дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь...». Влияние Белинского и его творчества в этом смысле «поставило много честных и честно думающих людей»[101]. Характер «наставнических» отношений с Тургеневым был иным: больше всего критик побуждал его писать, серьезней относиться к своему дарованию, которое в сущности распознал первым. То же следует отметить в отношениях Белинского с П. Анненковым, которого он убеждал в 1839 г. фиксировать свои впечатления. При этом над всей необыкновенной дружбой яростного «левого» критика и начинающего писателя витают в повести тени их общих друзей – «кроткого» Н. Станкевича и «львообразного» М. Бакунина, с которыми Тургенев знакомится в Германии. Важно обратить внимание также на то, что Михаил Бакунин предстает в повести «типичным» дворянским интеллигентом последекабрьской эпохи (если следовать градации, предложенной Герценом), а главный герой хотя и сроднен со своей эпохой, как художник принадлежит «вечному на все времена». Сообразно с этим становится понятен отбор для повести лиц из окружения Белинского: это те, кто в какой-то мере причастен к отношениям главного героя с четой Виардо (Комаришка, Зиновьев, Тютчев), а значит, к «линии» его судьбы, сплетаемой в повести тремя «вечными» темами: родина, творчество, любовь, нерасторжимыми как три состава вещества души.
О трагизме чисто русской ситуации – неизбывного «лакированного варварства» даже после реформ середины века, на которые столько сил было положено «переходным поколением», писал А.Ф. Кони, когда, по его словам, резко обозначился давно начавшийся разлад «между административной практикой и теоретическими требованиями, выросшими на почве преобразований Александра II … и победа, нравственная победа, осталась не за практикой <…> В правительственных кругах забили тревогу, как только явилось сознание, что общество, выйдя из пассивной роли, выразило осязательно и наглядно… все резкое порицание самому началу беззаконных действий видного сановника и в его лице – всей придержащей власти»[102]. Это наблюдение Кони подтверждает вывод исследователей о том, что настроение, о котором свидетельствовал П. Анненков, распространявшееся в обществе с 30-х годов, гуманитарное по существу, увеличив пропасть между обществом и царизмом, все же не затронуло обычая, со всеми его мелкими «беззакониями» и бытовыми условностями, непререкаемыми для большинства людей разной сословной принадлежности. На время повести даже в кругу Белинского, не выносившего аристократию именно за ощущение себя таковой во всех смыслах, сказывались условности «принятого» и «непринятого»: как замечает в своих воспоминаниях К.Д. Кавелин, между «старшими» и «младшими» и в этом маленьком сообществе – издателей, литературных работников и их друзей, существовала дистанция между «солидными», «имеющими вес» людьми, и молодежью, независимо от ее талантов, например, такую дистанцию «держал» родовитый И.И. Панаев, уже женатый и живший на широкую ногу.
В повести И.И. Панаев не удостаивается высокой оценки автора, хотя его мемуары и отличаются живостью (в отличие от воспоминаний Е.М. Феоктистова): Панаев и Некрасов нещадно эксплуатировали Белинского, часто подводили Тургенева с выплатой заработанных им денег. Автор подчеркивает их делячество, останавливаясь на качестве первых публикаций двух начинающих авторов (Тургенева и Достоевского) – с издательской точки зрения явной «халтуре». Панаев в повести – «пустой человек», Некрасов – ненадежный и безжалостный деловой партнер. Примечательно, что Панаев получает в повести оценку, которую дает в своих мемуарах А. С. Комарову – Комаришке. Поставлен неожиданный для повести, скупой на характеристики «фоновых» персонажей, вопрос: что за люди окружали Белинского? Есть и ответ: по всяком случае «не бездушники», ведь «бездушников» Белинский рядом с собой не терпел... Определенно отношение Тургенева к А.С. Комарову важно для автора: именно этот нелепый человек, вопреки условностям, пригласил его, неизвестного начинающего поэта, на вечер, где будет знаменитость – Луи Виардо. Об этикетных предрассудках косвенно свидетельствует и А.Я. Панаева, когда с раздражением пишет о Тургеневе (как мы знаем, неизбывно нуждавшемся в деньгах), который вдруг «являлся» в абонированную ее мужем ложу вместо того, чтобы абонировать свою. Панаева, как и Феоктистов, развивает мифы о «лживости» Тургенева, его «тотальной неискренности», кроме того, в его приездах на родину в более позднее время она видит только желание «пожинать лавры»[103].
Именно из воспоминаний К.Д. Кавелина мы и узнаем о том, что И.И. Маслов был не просто секретарем, но и другом дома И.Н. Скобелева и сообщал новости о том, что говорилось и делалось в Петропавловской крепости, и новости эти были вовсе «небесполезны при Николае Павловиче», а к «авторитетнейшим свидетельствам П.А. Языкова (непосредственно или через его брата М.А. Языкова), близкого к Клейнмихелю, восходила, вероятно, большая часть тех “новостей” о Николае I и его окружении, новых назначениях, которые могли интересовать “русскую демократию” за границей» и которые, как указывает Ю.Г. Оксман, Белинский передавал, частности, в письме, адресованном в начале декабря 1847 г. на имя П.В. Анненкова. «Это письмо было послано за границу с верной оказией и предназначалось, судя по его содержанию, не столько для Анненкова, сколько для актива русской революционной эмиграции – Герцена, Бакунина, Сазонова»[104].
На фоне общений и дружб Тургенева и с учетом их «градуса» (если прибегать к образу Л.Я. Гинзбург) и разрешается структурообразующая тема повести — общений, открытий, разочарований: главный герой обретает себя, теперь он знает, что он писатель и что его будущее определено. Но его жизнь «срасталась» не потому, что его кто-то «вел», а потому, что в непростых исканиях он обретал право на свой голос. Возможно, поэтому светская жизнь с ее салонами, в которых предпринимались усилия «сближать литературу с великосветским обществом», мало его занимала, как и большинство его друзей-кружковцев, в том числе таких родовитых, с их широкими семейными связями, как М. Бакунин. В повести хождения главного героя по московским салонам им самим расцениваются как пустое времяпрепровождение. По словам А.Н. Пыпина, в отличие от «журфиксов, на которых могла собраться “многолюдная и случайно соединявшаяся толпа”», кружки отличались «одним общим разговором» и «сознательным соединением», которое внушалось общими литературными взглядами, не случайно такое соединение «переходило в дружеские отношения»[105]. В этом смысле красноречивы ироничные отзывы о себе Белинского, когда он побывал, еще в московскую свою пору, на одном из собраний у писателя-романтика кн. В.Ф. Одоевского, сердечно относившегося к нему, принимавшего в нем большое участие, несмотря на свою «повытертость светом и жизнью». По словам Герцена, «Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и чиновником Третьего отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались»[106]. В общем, как написал И. Аксаков в 1853 г.:
Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу
Иль в поздней ужина поре
В роскошно убраной палате
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре.
Автор повести определенно учитывает, что Тургенев, еще не завоевавший славы большого писателя, не был центром притяжения на родине и за границей, вместе с тем присущие ему «вольномыслие, холодность к правительству, знакомство с эмигрантами и некоторое сочувствие к революционерам», как пишет Б. Зайцев, рассказывая о более поздней дружбе Тургенева с А. Фетом, — черты, раздражавшие «черноземную» часть русского общества, в том числе Фета и его отца А.Н. Шеншина[107], характеризуют положение Тургенева в кругу передовой дворянской интеллигенции. Основываясь на документальных источниках, автор акцентирует и то общее в оценках Тургенева, Белинского и Герцена, что могло укреплять их дружбу.
Другая особенность стиля жизни дворянства в «эпоху русского романтизма» – путешествия за границу, которые, однако, могли быть прерваны распоряжением (указом) царя. В случае неповиновения и полной эмиграции дворяне утрачивали свое звание (вместе с правами), соответственно его утрачивали их потомки. Поэтому просил милости царя разрешить ему вернуться в Россию знаменитый Н.И. Сазонов, упоминаемый в повести, — «ревностный защитник демократии», участник французской революции 1848 г., считавший себя учеником Маркса, бежавший за границу, чтобы избежать ареста по тому же «университетскому» делу, что и Герцен. Разочарование революционной демократии в Сазонове не смягчила даже его скоропостижная смерть в Швейцарии на пути домой. Герцену удалось сохранить свое состояние благодаря умелым действиям дома Ротшильдов. Как вспоминает А.Я. Панаева, в 1840-х годах была введена огромная плата за заграничный паспорт — 500 руб.[108], с тем чтобы ограничить число выезжающих. Освобождала от этого сбора медицинская справка о необходимости лечения[109].
В свое время указу царя, также продиктованному революционными событиями в Европе, не подчинился отец писателя (был не транспортабелен после сложной операции камнесечения, проведенной в 1830 г.), с чем исследователи предположительно связывают установление за ним полицейского надзора, если не со знакомством с однофамильцами Тургеневыми[110]. Перед главным героем этот тяжелый вопрос — срочно возвратиться домой или остаться за границей навсегда – возникает в «линии» дружбы с Герценом, но не как политический, а как нравственный: честности с самим собой и со своими близкими, прежде всего с матерью, хотя их отношения уже вступили в стадию тупика. Стоит помнить, что Герцен окончательно покинул Россию только после смерти отца. Щадил самолюбие своих родителей и Бакунин. Например, 4 ноября 1842 г. он писал домой: «Боже мой! Как разрывалось мое сердце, когда я прощался с папенькой – как грустно было покидать нашего бедного святого старика, который хотел нашего счастья, но испортил жизнь нашу; испортил ее потому, что в нем недостало силы веры в свои убеждения». Отношение к родительской семье отличало Герцена и Бакунина от Белинского – с его «горечью» в отношении всей своей жизненной орбиты, и, бесспорно, в каком-то смысле эти «революционеры» поставлены в повести в параллель Белинскому, но по умолчанию, поскольку в Белинском выделены черты русского Дон Кихота, а не тяжелые человеческие качества, таким образом, отчасти и объясняется отношение к нему Тургенева, главное же, что читатель должен уяснить (это подчеркнуто в зарисовке мысленного сравнения Тургеневым себя и Герцена): начинающий писатель – как как художник – не только уже мог увидеть «исторический образ времени, воплощенный в "живых личностях"» (по словам Л.Ю. Лотман), но прежде всего выносил себе бесстрастный приговор.
Дружба Тургенева с Герценом проходит через повесть «пунктирно», в ряду многих событий жизни, «сплетающих» линию творческих поисков, но выделена такая ее составляющая, как участие: писателя в писателе, человека в человеке, на что указывает появление «крупнопланового» и самого короткого в повести этюда «Читка», где приводится оценка Герценом «Нахлебника», а также зарисовки самоотверженного выхаживания Герценом заболевшего холерой Тургенева[111]. В «открытом» доме Герцена в Париже главный герой находит поддержку в самый трудный период своей жизни – полуголодного существования и напряженного творческого труда. Бедственное положение Тургенева, последовавшего за границу весной 1845 г., после второго в России сезона Полины Виардо, до смерти матери, пытавшейся «образумить» любимого сына, лишив его средств к существованию, было таким, что он являл собой «какое-то подобие гордого нищего, хотя и сознававшегося в затруднительности своего положения, но никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения»[112].
В своих «странствиях» Тургенев сближается и с семействами, далекими от политики, – Фроловыми и Ховриными. О Елизавете Павловне Фроловой упоминалось, Дарья Дмитриевна Ховрина – дама «большого света», сестра знаменитого генерала И.В. Лужина, однако, по отзыву Белинского, «премилая и преумная», с «живым чувством изящного», «умеющая понимать Пушкина и Гоголя». Знакомится Тургенев и с Алексеем Алексеевичем Тучковым, когда-то участником декабристских организаций, арестованным после восстания, но освобожденным за «недостаточностью улик», предводителем дворянства в Инсарском уезде Пензенской губернии, жившим в Париже одним домом с Герценом (он был тестем Н.М. Сатина по старшей дочери). Именно в этой «линии» на первый план повести выходит «женская» тема. Силуэтно, но охарактеризована прелестная Шушу Ховрина; о ней Тургенев писал матери и посвятил ей шутливые стихи. Детальней других героинь «второго плана» представлена «маленькая Натали», дочь А.А. Тучкова (просто Натали — жена Герцена) – «дурнушка», задевшая Тургенева искренностью, умом и послужившая для него музой и прототипом Веры при написании комедии «Где тонко, там и рвется», ей посвященной. Это единственный случай в повести, когда рядом с прототипом появляется его литературный образ.
«Горизонт» литературного образа, как кажется, понадобился автору для того, чтобы поставить один из самых важных для повести вопросов: можно ли относиться к другому человеку как к средству достижения своих целей? Так поступает Вера из комедии, «знающая свое право на молодость», на личное счастье, так поступает в конце концов и сама «маленькая Натали», по которой в повести «вздыхает Огарев», ставшая (за рамками повести) сначала его гражданской, а затем и официальной женой, но покинувшая его ради Герцена. О том, что и политическую борьбу она воспринимала как способ яркой жизни, говорят ее воспоминания, а также дневник, в котором она называет себя эгоисткой и пишет о своем стремлении к «полноте жизни, всего несбыточного и непонятного для других»[113]. На ее воспоминаниях и построены зарисовки появления комедии «Где тонко, там и рвется». В частности, по этим этюдам можно составить представление о творческой «лаборатории» автора повести: он не копирует интонацию мемуаристки, а используя отдельные ее слова, приводимые детали, достигает узнаваемости своих персонажей, достаточной, чтобы отсылать к исторической реальности, нередко конфликтно взаимодействующей с авторским рассказом.
Эти две женщины, «историческая» Тучкова и литературная Вера, бескомпромиссные в своем «праве на жизнь», на «полноту бытия», что Тургенев увидел в юном существе, находящемся на пороге жизни, вместе с тем не приобретают «отрицательного знака». «Маленькая Натали» противопоставлена – «по умолчанию» – «Мессалине предместий», как зло называл Герцен первую жену Огарева из-за скандальности ее поведения, к которому привели, по выражению П. Анненкова, «мечтания о независимой жизни» – «без обязанностей и семейных пут», вместе с тем противившейся разводу, поскольку у нее не было средств для независимой жизни. В результате бракоразводного процесса, когда в ход были пущены доносы, которые писали на Огарева отец жены Л.Я. Рославлев и ее дядя пензенский губернатор А.А . Панчулидзев, богатейший Огарев оказался разорен. Эти доносы и послужили поводом к аресту не только Огарева, но и Сатина, даже старика Тучкова, которые обвинялись в «принадлежности к секте коммунистов». Разумеется, все эти события не находят отражения в повести, поскольку мы смотрим на те или иные события с очень близкого расстояния, а не «с птичьего полета», соответственно автор избегает «дополнительной» информации об известных и менее известных лицах, тем более он не забегает вперед, однако тщательно отбирает цитаты и «говорящие» имена, приоткрывая завесу, наброшенную временем на отдаленные от нас события, с ее неизбежной ретушью, даже если речь идет о «фоновых» персонажах.
«Со стороны» жены Огарева, лишь названной, а таких лиц в повести немало, включающих «исторический фон», входит в повествование близкая подруга Огаревой Авдотья Панаева, от которой позже внутренне отпрянет, приехав на родину, главный герой, — потакающая своей пошлой страсти к роскоши, пугающая своей фальшью. По мнению Н.А. Тучковой, Панаева участвовала в бракоразводной интриге, приведшей к разорению Огарева. Перед нами как бы два зеркала, смотрящихся друг в друга сквозь бедственную жизнь главного героя в Париже, полную лишений, в частности, из-за того, что «Современник» не выплачивает ему гонорары, — мир сердечного страдания и мир пошлости, что заставляет по-новому взглянуть на «заблуждения сердца» Натали-Веры. Проблема использования другого человека в своих целях, поставленная задолго до финала повести, и в «линии» приватной, должна, таким образом, настраивать читателя на «высокий регистр» в восприятии будущих событий как в собственной семье главного героя, так и в развитии его отношений с Полиной Виардо.
Жена Герцена Наталья Александровна представлена в повести вне отмеченного противопоставления, что, как кажется, тоже было обдумано автором. По мнению Л.Я. Гинзбург, проанализировавшей в деталях эпоху «русского романтизма», Наталья Александровна, одаренная литературно и человечески, была как будто предназначена для роли «прекрасной дамы», в отличие от других женщин «романтического круга», нередко плоско или экзальтированно отражавших «сложную духовную жизнь подлинных идеологов» этой культуры вплоть до истерии[114]. Кроме того, в сдержанном наброске облика Натальи Александровны ощутим читатель «Былого и дум» Герцена и воспоминаний Тучковой-Огаревой с их трагическими страницами. Автор повести, согласуясь с реальными фактами, не сокращает расстояние между главным героем и «прекрасной дамой», уходя от каких-либо оценок ее личности, «существа, исполненного противоречий». «Вы такие длинные, — говорит Тургеневу Наталья Александровна, — всё здесь переломаете»… и с нескрываемым волнением слушает «Нахлебника»…
В повести определенно несколько выдвинута из ряда «фоновых» героинь жена Н. Тютчева Александра Петровна (в девичестве Де Додт). Между тем с женой Белинского автор нас не знакомит, не названо даже ее имя. Появление в повести Тютчевой, как кажется, диктовалось не только ее участием в переправке за границу дочери Тургенева, но и стремлением охарактеризовать «культурную нишу» главного героя: автор повести считает необходимым отметить, что маленькая Пелагея-Полинет привязалась к Александре Петровне и их расставание было нелегким. Вероятно, жена Белинского, по одним воспоминаниям современников, замечательная красавица и просвещенная особа, по другим — невыразительная и не понимающая мужа, не могла занять в повести какого-либо места без ущерба для ее стройности.
Александра Петровна Тютчева хорошо, даже по отзывам взыскательного Тургенева, играла на фортепьяно. Белинский, например, часто просил ее исполнить «Шарманщика» Шуберта или адскую пляску из «Роберта-Дьявола» Мейербера, произведения особенно им любимые. Для Тургенева в период ссылки Александра Петровна и ее незамужняя сестра Констанция играли на фортепьяно в четыре руки – исполняли сочинения Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Глюка, Гайдна. Для этих вечеров Тургенев сам составлял программы. В переписке он сравнивал Александру Петровну с ее младшей сестрой: «…С некоторых пор глаза госпожи Тютчевой поправились, и мы много музицируем. Она очень хорошо разбирает ноты и очень верно чувствует истинно прекрасное. Ее сестра, наоборот, имеет естественную склонность ко всему приторному и пошлому, и слезы у нее появляются с легкостью, доводящей до отчаяния… К счастью, она играет вторую партию, басовую. У нее пальцы точно из ваты, а когда она запутывается, то старается придать первой попавшейся ноте чувствительное выражение. Это ужасно! В игре г-жи Тютчевой много твердости и ритма. Если барышню заставить повторить всю партию, то некоторые пьесы получаются очень хорошие. Сейчас мы по горло ушли в Моцарта…» (письмо Полине Виардо от 24 мая 1853 г.).
На это письмо Тургенева стоит обратить внимание не только потому, что оно передает атмосферу кружка Белинского, где Тургенев нашел друзей, но и в контексте важной для повести «женской темы», показывающее «неслучайность» появления в повести тех или иных его знакомых и приятельниц, одни из которых лишь названы, другие представлены более подробно. В своей переписке Тургенев отмечает, что мог бы влюбиться в Александру Петровну, если бы не ее преданность мужу и что-то «безжизненное», «мертвенное» в характере. Фоном к музицированию, упоминаемому в повести и охарактеризованному в процитированном письме, служит цветущая природа: «Сад мой сейчас великолепен; зелень ослепительно ярка, — такая молодость, такая свежесть, такая мощь, что трудно себе представить, перед моими окнами тянется аллея больших берез… Весь мой сад полон соловьями, иволгами, кукушками, дроздами…».
Приведенные свидетельства писателя о себе еще раз убеждают в том, что высокую роль женщины для него определяла, видимо, некая «витальность», с чем определенно согласуется «ранжированность» в повести женских персонажей «второго» и «третьего» планов. Так оказываются выдвинуты из ряда «фоновых» героинь не только Н.А. Тучкова или В.А. Дьякова, но и графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, в девичестве Сухово-Кобылина, старшая сестра драматурга, писательница де Тур, эпизодическое лицо в судьбе Тургенева и не самая яркая фигура в культурной жизни Москвы. Но она «суха и пламенна», по словам Грановского, независима, остроумна, даже экстравагантна, как считал Герцен, страстно привязана к детям, и, несмотря на бегство из России мужа-француза, скрывающегося от властей из-за дуэли, занимает прочное место в светском кругу – возможно, благодаря моде на творческие занятия среди аристократии в «век овдовевшей Гуманности», по выражению ее брата. Графине посвятил свою книгу «Песни Эдды о Нибелунгах» Т. Грановский. К.Н. Бестужев-Рюмин писал о ней в воспоминаниях: «В те годы в ее доме для меня открылся новый мир: постоянное общение с женщиной, много видевшей, много читавшей и всем интересующейся – тогда она только начинала свою литературную деятельность – было чрезвычайно полезно. В ее доме в ту зиму я встречал Грановского, Кудрявцева и особенно часто Максимовича…». Одна из младших сестер Сухово-Кобылиных стала не менее значительным украшением родовитого семейства – как первая в России профессиональная пейзажистка, закончившая с несомненным успехом (она получила серебряную медаль) Академию художеств. По признанию самого Тургенева, и об этом говорится в повести, чем-то Елизавета Васильевна напоминала Полину Виардо. У нее он и знакомится с Евгением Феоктистовым, учителем ее детей и близким другом, «обретшим» в ее доме семью, который доставит в «Московские ведомости» статью Тургенева о Гоголе по просьбе В. Боткина, находившегося тогда в ссоре с их редактором М.Н. Катковым.
О том, что появление в повести графини было связано не только с необходимостью назвать имя Феоктисова, может свидетельствовать, помимо прочего, тургеневская острота в отношении жены Грановского, которую автор считает нужным привести, — «неудавшееся стихотворение Уланда» (Уланд – романтический немецкий поэт, воспевавший рыцарские времена). Эта острота была меткой: юная Елизавета Богдановна, дочь известного московского врача Б.К. Мильмаузена (Мюльмаузена), отличалась склонностью к меланхолии и постоянным слезам. О ней, не без симпатии, пишет в своих мемуарах А. Панаева, посвятившая ей роман «Мелочи жизни» (1845 г.) и объяснявшая ее характер диктатом властного отца. Герцена также нимало трогало служение юного существа выдающемуся мужу. С высоты времени острота Тургенева выглядит жестокой – Грановская рано умерла, но вместе с тем показывает его отношение к женщине как «нравственной силе»[115], лишенное сексизма даже в его романтической форме.
В литературе уничижительный тон Феоктистова по отношению к Тургеневу в его мемуарах часто объясняют обидой на то, что Елизавета Васильевна Салиас стала прототипом Суханчиковой из «Дыма» и Хавроньи Прыщовой из «Нови», но, видимо, причина не столько в этом: даже в собственных воспоминаниях Феоктистова, сохранявшего с графиней дружеские отношения на протяжении десятилетий, она характеризуется хотя и пространно, но как будто «по долгу» и оказывается полностью заслонена своим зятем О.И. Гурко, близким к Александру II. Можно думать, разочарование законопослушного Феоктистова в Тургеневе, пережитое вместе со страхом за свою судьбу, близость к власть предержащим в большей степени показывали его желание дискредитировать писателя, «покорившего Россию», очень вероятно, к неприятному удивлению мемуариста. Но поскольку тема друзей-недоброжелателей в повести полностью снята, графиня вместе с учителем ее детей включена в линию «любовь» – из упоминавшейся триады «вечного», и, как все женские «образы» «второго» и «третьего» планов начиная с «силуэтной» Шушу, призвана «оттенить» главный женский «образ» повести — Полины Виардо, придать ему объемность, избежав такой трудности, как прямая характеристика непостижимой, «колдовской Беатриче» Тургенева, бесконечно далекой как от душевных борений, так и дрязг бесправных русских женщин, которую «везде сопровождал гений», по словам художника А.П. Боголюбова. Хотя Тургенева покоряло любое напоминание о Полине Виардо, он смог остаться честным в оценке творчества графини. Любопытно, что критичный отзыв Тургенева о ее романе «Племянница», упоминаемый в повести, мало заинтересовал графиню по существу, и досада привыкшей к похвалам светской дамы скоро прошла вместе с хорошо разошедшимся тиражом романа.
О тонкой материи отношений Тургенева и Полины Виардо рассказывает в своих воспоминаниях С.Л. Толстой, сын писателя: одной из счастливейших минут в жизни Тургенев считал минуту, «когда встретишься глазами с женщиной, которую любишь, и поймешь, что и она тебя любит…». Толстой останавливается на этом признании Тургенева в связи с насмешками Н.Н. Страхова, иронично удивлявшегося, отчего у Тургенева почти все молодые люди в романах влюбляются и никак не могут жениться. По мнению мемуариста, «Страхов хотел побранить Тургенева, а вместо этого его похвалил. Тургенев – певец не плотской, а чистой, самоотверженной любви, которая может ограничиться взглядами и намеками, но нередко, по выражению Мопассана, сильнее смерти»[116].
В ряду «фоновых» героинь лишь у Варвары Дьяковой, старшей сестры Михаила Бакунина, другая роль – «оттеняющая» главного героя, который предстает рядом с этой витальной женщиной лишенным обычной сословной «пошлости» (если использовать словарь Феоктистова и Зайцева): он искренне восхищен «последней любовью» Станкевича, покинувшей мужа и приехавшей за границу к любимому человеку, умной, волевой, яркой и музыкальной. Да и Михаил Бакунин, по свидетельству Р. Вагнера, был невероятно музыкален. Все берлинские годы наполнены для Тургенева музыкой, театром, радостью искренней дружбы, а не только занятиями философией, но и ими тоже – новым для главного героя опытом совместных философских штудий с ближайшим товарищем. Бурный, «львообразный» Бакунин мало напоминал Грановского, в котором, по словам Герцена, «сквозило что-то пасторское», не был он и «заземленным», как самый первый товарищ Тургенева, его старший брат.
Рассказывая о дружбе Тургенева с Бакуниным, автор дает почувствовать «естественность» их сближения: потребность Тургенева в друге и потребность Бакунина в аудитории, общность их воспитания с такими его атрибутами, как интерес к «общим вопросам», интеллектуализм, предполагавший тотальную критику всего и вся, знание языков, образованность, любовь к музыке, культивирование «высоких переживаний» и т.д. – всего того очень русского, чем можно было поделиться «не надевая фрака». Тургенев, по воспоминаниям современников, мог быть не менее эпатирующим, чем Бакунин, только в другом роде: обычно он не показывал обширности своих знаний и не слишком подпускал к себе знакомых, его даже находили странным из-за стиля его поведения. А.В. Щепкина, например, писала: «Так, если Тургенев не расположен был говорить, он способен был провести несколько часов молча», «смотрел тогда апатично», «отвечал односложными словами». «Но странности появлялись у Тургенева и при веселом настроении и тогда уже походили на шалость. <…> однажды вечером у нас в доме он долго сидел молча. Низко нагнувшись, свесив голову, он долго разбирал руками свои густые волосы и вдруг, приподняв голову, спросил: “Случалось ли вам летом видеть в кадке с водою, на солнце, каких-то паучков? Странных таких…”. Он долго описывал форму этих паучков и потом замолк. Ответа он не ждал…»[117].
Дружеские контакты с Я. Неверовым, «чопорным и приличным», с которым в 1838–1839 гг. Тургенев жил в одной квартире в Берлине, не могли превратиться в «беззаветную» дружбу, нет их и в повести. Примечательно, что если Бакунина в светском кругу считали «дрянью», то «откровенности» «слабого» Тургенева часто воспринимали как «барскую привычку». Можно думать, как, собственно, и предполагает автор, что опыт этой беззаветной дружбы, братства при разности натур, и определил на долгие годы их преданность памяти друг друга, подтверждающуюся множеством фактов.
Собственно, все построение повести, с гуманитарной нагрузкой ее «разграничительных линий», когда становятся понятными отношения Тургенева с «революционерами», депрессия Грановского, причины сближения Тургенева с Аксаковыми и т.д., заставляет думать об определенном противопоставлении этого произведения известному труду А.А. Корнилова о Бакунине в двух томах («Молодые годы Михаила Бакунина» и «Годы странствий Михаила Бакунина»), имеющему красноречивый подзаголовок: «Из истории русского романтизма». Само название «Молодые годы Ивана Тургенева» подчеркивает намерение автора оппонировать этому труду, внимательно им изученному. Повесть содержит в какой-то мере «ответ» и маленькой книжечке писателя-эмигранта Б. Зайцева, проникнутой искренним восхищением мастером слова, но трактующим «загадки» личности и судьбы писателя в координатах философии начала ХХ в.
Собственно, «изреченность слов» в атмосфере ожидания необыкновенной любви и становится ловушкой как для главного героя, так и для Татьяны Бакуниной, «чистейшего», «светлейшего» создания, по словам Белинского, переносившей, как все дети Бакунины, на себя, свою жизнь «донесенные до них старшим братом философские постулаты». Эти своеобразно интерпретируемые, проходившие через их сердца постулаты, превращались, как пишет Л.Я. Гинзбург, в «нравственный императив» – руководство к действию, чем, вероятно, и объяснялись настойчивые письма Татьяны к Тургеневу, много цитируемые в повести, почти тиранические. То, что Тургенев в период «метафизического романа» с Татьяной Бакуниной ждал рождения ребенка от Дуни Ивановой и писал «Искушение Святого Антония», по-своему настроенный романтически, обозначает в повести ту границу, которая была для него непреодолима. И, видимо, «рубец на сердце», как определял Тургенев то, что навсегда осталось от Премухино, скрывал тяжелый диссонанс, который емко выразила Варвара Петровна, сравнивая сына с утопающим почтальоном: «держал-держал сук, выбился из сил… и волны уносят его…».
Неожиданная влюбленность Татьяны, любимой сестры первого друга, была нелегким испытанием для того, кто мог быть воспринят в качестве жениха, в отличие от сына лекаря Белинского и сына чаеторговца Боткина. Автор, однако, обращает наше внимание на другое – дружеское обязательство Тургенева, невольно ранившего самолюбие влюбленной в него девушки, даже лечившейся от «меланхолии» тресковым маслом. Об этом же говорит набросок одного из писем к Татьяне, где Тургенев пишет о «невозможности, играть, как дитя, с самым святым – жизнью другого человека», и о том, что он «осмеливается быть правдивым». «Неполнота» любви Тургенева к Татьяне для нас очевидна, как и цель посылаемых Татьяне стихов, от шутливых до серьезных, – они должны успокоить ее самолюбие, в особенности песенка Аннунциаты из «Искушения св. Антония»: в «прекрасной донне» она могла узнать себя, а кроме того, догадаться о его тайне, неуместной в «средоточии романтизма». Определенно автором повести учтен не только романтический, но и весьма тривиальный для своего круга настрой девушек «романтической» эпохи: как мы знаем, конфидентка Татьяны Бакуниной Александрин Беер, обиженная за подругу, потребовала от Михаила Бакунина порвать отношения с Тургеневым. Старший брат ответил непосредственно сестре: он писал, что никогда не был рабом идей, владеющих «светом», и не перестанет любить Тургенева, причина недостатков которого – «крайняя молодость» (действительно, Тургеневу не было 25, когда Бакунину должно было исполнится 30 – ощутимая разница в таком возрасте), тем самым инцидент с «условностями» и ложными надеждами был исчерпан.
Как показано в литературе, вольнолюбивое «жизнетворчество» с его «предельной искренностью», т.е. стремлением к «предельной честности отношений», выражало независимость и достоинство свободной личности в романтическом духе, но одновременно указывало и на значимость «феодальных ценностей», против которых было направлено. Практика так называемого «сговора» при заключении брака, хотя и в завуалированной форме, но сохранялась. Станкевич и Любовь Бакунина, искренне увлеченные друг другом, тем не менее ждали решения отца Станкевича. Братьям Тургеневым подыскивали невест, и собственный выбор сыновей пошатнул здоровье их матери, старейшей в роде, даже награжденной по этой причине в ознаменование победы в войне 1812 г. «Родители будущего писателя, по словам Н.М. Чернова, долгие годы сохраняли приверженность психологии старомосковской знати». Такое самоощущение Варвары Петровны автор повести акцентирует не единожды, в частности, останавливаясь на оценке, которую она дает понравившейся ей героине поэмы «Параша» – «между других дворяночке». «Романтическое жизнетворчество» – как важнейший признак рождения новой культуры – коснулось даже «славянофилов», тех из них, для кого существование в России «общественного мнения» не было пустым звуком, демонстративно наделявших знаковостью свой внешний вид, как, например, одевшийся наподобие «персианина» Константин Аксаков, автор «Молодого крестоносца», посвященного Михаилу Бакунину, «благороднейший», «возвышенный» человек, по посмертному отзыву о нем Герцена. В 1849 г., когда появился комический и одновременно варварский указ царя о запрете дворянам носить бороды, которым «была отнята всякая общественная деятельность, даже хоть своим наружным видом», как говорил старший Аксаков, вся семья решается «закупориться в деревне навсегда».
В повести избран «позитивный» ключ оппонирования труду Корнилова, точнее, главному его посылу, что проявилось в повести и композиционно: большое место в ней занимают «странствия» Тургенева по Европе, и хотя часто это как бы «нанизывание» местностей, пейзажей, красок, культурных сокровищ и этнических типов, передающее «вихрь» его путешествий и «жадность до них», приоткрываются и особенности внутреннего роста пытливого и открытого «вечно прекрасному» молодого человека, «артиста в широком смысле слова». Например, в Риме у Колизея он впервые ощущает свою проницательность художника, но вместе с тем и несовершенство своих начальных литературных опытов в романтическом духе, когда он многое чувствовал, но не мог передать мыслей и чувств без «сочинительства» (как называл это П. Анненков), не нашел своего художественного языка. Каждое из путешествий отдаляло его от всего фальшивого и наносного, что он в себе находил, тренировало глаз и вкус, воспитывало мысль. Передает автор и масштаб личности Бакунина, его пассионарность (как мы сказали бы теперь), лишь намекая на «побочные эффекты» романтического «моделирования личности».
Бьется сердце молодое,
Перед ним вдали, как сон,
Всё небесное, святое,
Всё, чем в жизни дышит он.
Избрав «позитивный» ключ сопоставления двух друзей, автор снимает и тему тирании в отношении сестер, от которых Михаил Бакунин добивался, как их духовный наставник, следования «идеалу». Не выпуская из поля зрения Бакунина, автор, таким образом, сопоставляет, а не противопоставляет друзей, их судьбы: если у одного появилось «польское дело», то у другого – восхитительные «охотничьи» рассказы, если у одного было величие поглощавшей его освободительной идеи, то у другого – не менее великая и поглощающая стихия художественного творчества.
Таким образом, скупая характеристика в повести «стариков» Бакуниных, должна контрастировать с тем, что мы узнаем о Тургеневых, у которых не было образцовой семьи, но они любили детей, жили их интересами, для Варвары Петровны профессорство сына было «верхом блаженства», цитируется в повести и ее «загадочное» письмо – «крик души», показывающее способность хотя бы на миг понять великую любовь сына. Соответственно «поэтика» минувшего века (сравнительно со временем повести) коснулась скорее Спасского, чем Премухино, – накануне драм, замутивших ноту «реликвий прошлого», разбито звучащую даже в самых последних зарисовках повести, – ноту Варвары Петровны, с ее любовью к безделушкам, театральности и т.д.
Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть, —
Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь.
Перед смертью Я. М. Неверов «почти все свое состояние завещал на открытие школы Станкевича (на его родине), «школы в селе Верякуши [где родился он сам], на учреждение стипендии имени Т.Н. Грановского на философском факультете Московского университета»[148]. Таким образом, в атмосфере «служения истине» дружеские связи Тургенева предстают более естественными, чем у Б. Зайцева.
Общая установка Б. Зайцева представить Тургенева «аполлиническим художником», изначально — самой в себе — трагической личностью, с некоей ущербностью, метафизическим изъяном, сталкивающейся с Афродитой-Пандемос и Афродитой-Уранией, а затем обретающим своего «сфинкса», «колдовскую Беатриче», приводит автора к выспренностям, например, следуя поэтическому посылу Гейне, он рисует такой портрет Полины Виардо: «Древняя кровь, древние страсти таились в ней. Малибран [старшую сестру Полины Виардо] считали более лирической певицею, Виардо – трагической. Гейне ощущал в ней некую стихию, самое Природу: море, лес, пустыню. Может быть, и действительно сберегла она в себе первозданное. Может быть, странствия юности, океаны, леса Мексики, плоскогорья Испании, навсегда оставили на ней отпечаток. Гейне, человек эротический, боялся ее улыбки, “жестокой и страстной”, и чувствовал в ней экзотику. Он находил, что когда она поет, то внезапно на сцене могут появиться тропические растения, лианы и пальмы, леопарды, жирафы “и даже целое стадо слонят”». В процитированном пассаже (впрочем, как и в целом в книге) Зайцев намеренно уходит от конкретных фактов в принятой им «обобщающей» манере, поскольку они развеивали бы тот «инфернальный» флёр, который он набрасывает на «непостижимую» любовь писателя. Более земной образ складывается в повести — не только великой певицы и актрисы, но и великой труженицы, юной прелестной женщины, умеющей быть преданным другом, принадлежащей к культурной элите Франции в период бурных исторических событий, что согласуется с воспоминаниями современников[149].
Что касается «странствий юности», то, чтобы не вводить читателей в заблуждение, сошлемся на композитора и музыковеда А. Розанова, подробно рассказывающего о семье двух великих певиц, родившихся во Франции, куда привели их отца, великого тенора Мануэля Гарсиа, социальные бури в Испании. Четырехлетним ребенком Полина Виардо действительно побывала в Америке – сначала Северной, а затем Южной, вместе с труппой отца, но «странствия» по Америке едва не закончились трагически: в Мексике по пути к порту после окончания гастролей на артистов напали бандиты. «Мужчин уложили лицом к земле, а женщин и детей загнали в придорожные кусты». Их могли убить, но, отобрав все деньги и ценности, бандиты скрылись. Ночью, когда семья устроилась на ночлег, старший Мануэль начал хохотать: из заработанного за четыре года почти ничего не осталось». «Смех будил меня, и я смеялась засыпая», – вспоминала Полина Виардо. В свои четыре года, по свидетельству Роберта Оуэна, она говорила на четырех языках. В доме отцом была установлена жесткая дисциплина, и даже во время гастролей девочка продолжала занятия, в Мексике уроки игры на фортепьяно она брала у местного органиста Маркоса Вегаса, в три года она уже умела читать ноты. Достойно упоминания, что в Нью-Йорке труппу встречал либреттист Моцарта Лоренцо да Понте, который смог устроится на работу только в Америке – преподавателем итальянского языка[150].
Общая установка, замешанная на поэзии «эротического», оказывается неподходящей и в изложении событий на горящем пароходе «Николай I», трактуемых Зайцевым в русле известной сплетни о трусливом поведении Тургенева, однако ввиду тезиса об «избранности» всякого творца автор наделяет Тургенева такими мыслями: «Он молод, здоров, талантлив, впереди жизнь, в которой он скажет свое слово – это острое чувство бытия, верный спутник избранности, и крикнуло его устами…» и т.д. Собственно, и утверждения о том, что «молодой Тургенев хорошо чувствовал дьявола», «мелкого беса, духа пошлости», «испепеленность сердца оказались ему близки», – переложение на поэтический лексикон недоброжелательной мемуаристики.
В книге Л.С. Утевского зарисовка пожара на пароходе «Николай I» – пожалуй, одна из самых объемных, что, возможно, объясняется стремлением понять, что же в действительности происходило с 19-летним Тургеневым на тонущем пароходе и развеять миф об «элитарности» Тургенева, воспринятый Зайцевым и ставший аксиоматичным к началу ХХ в. Еще в первой своей книге о Тургеневе Л.С. Утевский обращал внимание на особенность его необычного восприятия, смешанного с «чувством смерти», присутствующей в жизни, и объяснял поведение во время пожара прикосновением «смертного ужаса» к душе юноши. О смерти, этой постоянной тени, ожидающей лишь возможности приблизиться, – высокой, тихой, белой женщине в длинном покрове, с никуда не смотрящими глубокими бледными глазами, писатель рассказал в надиктованном Полине Виардо «Последнем свидании» (о последней встрече с Некрасовым). В повести о склонности главного героя к мистическим переживаниям мы узнаем задолго до событий на пароходе – как о «потустороннем» кошмаре маленького мальчика после знакомства с загадочной книгой «Емблемы и символы» (знаменитой в свое время книгой Н. Максимовича-Амбродика). Возможно, необычное чувство появилось у наделенного воображением ребенка в раннем детстве, когда он тяжело заболел и едва не умер[151]. В повести в эпизоде пожара на пароходе «прикосновение смертного ужаса» опущено, но мы узнаем об уверенности в скорой гибели, которое, вероятно, и «крикнуло его устами»: «Умереть таким молодым!». Подчеркивается «автоматизм» поведения Тургенева, – не только когда он не сомневался, что погибнет, но и во время спасительного следования за матросом, возможно, связанный с «находившим» на него, даже не в столь экстремальных обстоятельствах, родом оцепенения, расценивающимся в живой природе как защитная реакция, переданы и его безнадежные «здравые» мысли[152]. В этой зарисовке автор демонстрирует наблюдательность психолога, критично подходя к собственным воспоминаниям Тургенева, что позволяет, как кажется, довольно близко представить душевное состояние поэтической натуры в полыхающем аду, в который превратилось судно, где совсем недавно пассажиры наслаждались жизнью. Тема смерти, волновавшая Тургенева на протяжении всей жизни, как она была услышана в сочинении старшей сестры Полины Виардо Марии Малибран («Прощание с Ниццей» на слова Метастазио «Вот сей плачевный час»), прослежена в его творчестве А.Я. Звигильским[153]. Возможно, такое восприятие стало определяющим и при знакомстве писателя с философией А. Шопенгауэра[154].
Важно обратить внимание на то, что сдержанность автора повести, продиктованная во многом его «импрессионистической» манерой, распространяется и на диагнозы почти постоянно болевшего Тургенева (гипертензия, болезни глаз, почек, легких, горла и т.д. – часто следствия бивуачной жизни и переутомления, очень опасные до появления антибиотиков, и др.), из всех диагнозов названы только холера и воспаление легких (смертельное по тем временам), и понятно почему: в первом случае появляется возможность передать «градус» дружбы между Тургеневым и Герценом, мастштаб личности Искандера, самоотверженно ухаживающего за другом, во втором – причины «затворничества» Тургенева в Москве, когда, находясь между жизнью и смертью, он по-новому увидел «современные типажи», о чем свидетельствует его первое прозаическое произведение – «скороспелая» повесть «Андрей Колосов». В обоих случаях для нас очевидна характерная тургеневская черта: отсутствие жалости к себе вблизи женщины «в белом покрове», умение «отпустить» себя в «жизнь», как было и незадолго до смерти в Куртавнеле, когда Тургенев грезил «о том, как стройные тени на Елисейских полях беспечально и безрадостно проходят под важные звуки глюковских мелодий»[155].
Диагнозы других действующих лиц также не названы, и тяжесть болезни отца Тургенева уясняется из самой атмосферы уединенности и печали жизни братьев с отцом, когда их родители живут «на два дома», видимо, усугублявшейся личной драмой умирающего Сергея Николаевича[156]. Отец главного героя предстает в повести как невидимая тень, голос из писем, благодаря чему автор уводит нас от достаточно затасканной темы, с которой связывают появление рассказа «Первая любовь», беспокоившего даже Л. Виардо – не сочтут ли это произведение, с точки зрения сюжета и характеров, «примером нездоровой литературы». Существует мнение, что этот рассказ хотя и был навеян семейной историей, Сергей Николаевич скорее напоминал Лаврецкого, спешно уехавшего в Лаврики, где он заперся, опустился и заболел[157]. Автор и здесь остается в рамках, установленных главным героем. По отзыву Юлиана Шмидта, имевшего в виду Зинаиду из «Первой любви» и Ирину из «Дыма», «талант позволил писателю показывать тончайшие черты любовного чувства… держась вдалеке от всего низменного», так происходило у него и с «чувством горя», в которое он позволял «заглянуть», «сберегая таким образом чистоту своей поэзии»[158]. Не случайно новый конец для французского перевода рассказа писатель грустно озаглавил «Прибавленный хвост к рассказу “Первая любовьˮ…».
Именно здесь, в Петербурге, а не в Спасском детства, вместе с последним аргументом жизненных блужданий – смертью, ее властным вторжением, когда один за другим умирают дорогие Тургеневу люди, открывается тема старшего брата и впервые противопоставлены аккуратный, прямой, постоянно переписывавшийся с отцом старший брат и младший — «баюшки-баю», как насмешливо говорила о нем мать. С этого момента – бесприютности и разламывающегося мира, начинается психологическая проработка характеров, что согласуется с замыслом книги о художнике. Нужно подчеркнуть, что автору удается довольно тонко передать чувства, связывавшие эту нестройную семью, соединив нечто неопределенное, бесплотное, лишь предугадываемое, и вполне определенное, как, например, статус в дворянской семье отца, старшего сына и т.д. Силуэтно набросанный «портрет» Сергея Николаевича согласуется с отзывами о нем современников – хорошего отца и мужа, которого, по мнению, например, Кривцовых, Варвара Петровна «не стоила». Легко представить, каким Б. Зайцев, с его интересом к метафизике эротического, видит Сергея Николаевича Тургенева.
В отличие от отношений с Татьяной Бакуниной, с их поворотами, оттенками, самоанализом, в «линии» Полины Виардо мы в основном узнаем о благостном влиянии всего, что с ней связано, на душевное состояние главного героя. Даже ее письма несли с собой «доброе дуновение». При этом опущены многие подробности их непосредственного общения, имевшие место в действительности, как и при описании отношений со Станкевичем. Вероятно, автор намеренно оставляет за ними статус идеальных, поскольку таковыми они оставались для главного героя, находившего даже при мысли об этих людях «творческое успокоение». Как известно, их влияние на окружающих в самом деле было необыкновенным. Станкевич, например, как подчеркивает Л.Я. Гинзбург, был для друзей «обещанием ясности и гармонии»[159], те же ожидания автор повести наблюдает у главного героя при одной мысли о Куртавнеле. Видимо, с духовным становлением Тургенева связаны именно эти две фигуры, хотя и не в зайцевском смысле «энтузиастов».
На роль Полины Виардо в жизни Тургенева, как ее понимает автор повести, ясней всего указывает появление в ней Шарля Гуно, а не, допустим, Жорж Санд, близкой ее подруги, способствовавшей браку с Луи Виардо (как союзу ума, т.е. Луи Виардо, и таланта, написавшей ее портрет в образе Консуэло), не Мериме, провербы которого Тургенев хорошо знал, не Шопен или Мюссе, — все они перечислены Б. Зайцевым рядом с Гуно в доказательство того, «как много Тургеневу дала Франция». Выбор автора повести из этого ряда именно Гуно согласуется с его замыслом: Гуно, как и Тургенев, только в начале своего творческого пути, кроме того, оба начинающих художника приглашены в Куртавнель его хозяйкой на время ее гастролей, чтобы обрести здесь «одиночество и покой». Гуно тяжело переживает преждевременную кончину старшего брата, известного архитектора Юрбэна Гуно, с которым был дружен, буквально «заливается слезами», Тургеневу некуда бежать, чтобы остаться собой.
О роли в своей жизни Полины Виардо Шарль Гуно написал в «Воспоминаниях артиста» спустя много лет после прерванных контактов. Признательность ей – перевернувшей его жизнь, превратившей его из «аббата Гуно», готовившегося к духовной карьере, автора и исполнителя религиозной музыки, подписывавшего свои произведения «L' Abbé Gounod», во всемирно известного композитора-новатора, — вторая в этой книге после благодарности матери, рано овдовевшей и ценой многих жертв, в том числе изнуряющего труда преподавательницы музыки, сумевшей дать сыновьям хорошее образование. В своих воспоминаниях Гуно подробно останавливается на истории создания оперы «Сапфо», первой его оперы, под покровительством Полины Виардо открывшей ему путь в новый музыкальный мир. Вспоминает Гуно и мать Полины Виардо г-жу Гарсиа, сестру Луи Виардо, старшую дочь Полины Луизу, «ставшую выдающейся музыкантшей и композитором» (г-жу Эрит), и, конечно, «знаменитого русского писателя Ивана Тургенева, очаровательного человека и близкого, верного друга семьи Виардо»[160].
Однако в этюде повести, посвященном сближению Тургенева с Гуно, ни мать Гуно, приглашенная в Куртавнель и жившая там, ни родные Полины не получают никакой роли, и это понятно: создание «полных» картин не входит в задачу автора, кроме того, его интересует внутренняя жизнь замка. Здесь мы и становимся свидетелями того, как Тургенев, сверстник Гуно, выступает в роли его старшего товарища, поверенного творческих мук, что важно для автора, поскольку якобы «ведомый», крайне несамостоятельный Тургенев при всей своей «бессознательности» не только увидел в начинающем композиторе огромное дарование, но и практически сразу после их знакомства морально поддерживал его и стал пропагандистом его творчества. Ему нравились, например, «Венеция», «Вечер», «Мексиканские песни», «Мой фрак», «Осень» – камерные произведения Гуно, он надеялся получить ноты его духовных сочинений «Реквием» и «Санктус». Представление о взаимном доверии двух начинающих талантов подтверждает их отношение к искусству как «осуществлению красоты». С точки зрения Гуно, под воздействием ума человека действительность подвергалась трем основным «перевоплощениям», «рассматривает ли человек эту действительность в идеальном и совершенном свете Добра, Истины или Красоты», т.е. в религии, науке, искусствах[161]. Особенно интересен здесь рассказ Гуно о том, как создавалась опера «Сапфо», писавшаяся в Куртавнеле: «Пережив только что тяжелое потрясение [смерть брата], я полагал, что откликнусь прежде всего на грустные и патетические мотивы, а вышло как раз наоборот: меня привлекали и завладевали мной яркие сцены. Должно быть, подавленное семейным горем, после многих дней, все мое существо, в порыве реакции, так и рвалось к свободе»[162].
Возможно, и Тургенев испытал «порыв к свободе» после всего пережитого, и не только тоской по родине объяснялась «непередаваемая русскость» и яркость «Записок охотника», да и всего нового, что было написано «под крылом Виардо», как утверждает Зайцев, хотя «крыла» в прямом смысле не было[163]. В таком случае погружение в то, что Белинский считал «этнографией», можно понимать менее формально. Не стоит забывать, что вместе с романтизмом в европейскую культуру приходят попытки осознать национальное. Полина Виардо, по свидетельству Ж. Санд, испытывала большой интерес к народному искусству: «по целым дням записывала мелодии наших певцов и игрецов на волынке» – в Ноане (где находилось поместье Санд) и в Куртавнеле, общаясь с крестьянами и фермерами. Испанские песни она разучивала во время гастролей 1841 г. в Испании, затем они вошли в ее репертуар[164], разучивала она и русские песни. Новый виток романтизма, как вспоминал Ф. Лист, требовал естественности и задушевности. К «новым романтикам» он относил Шопена, с его «уклончивым» темпом, «гибким» размером, «четким и шатким, как пламя», неприятием «необузданной стороны романтизма». «В высшей степени индивидуальное», романтическое чувство, переполнявшее произведения Шопена[165], как и лиричный «мелодизм» Гуно сделали их произведения популярными. Новые устремления коснулись и композиторского творчества Полины Виардо, на что указывает первый альбом ее сочинений, подаренный «маэстро Львову». Как подчеркивается в повести, мир Куртавнеля – мир искусства – не имел национальности, поэтому, видимо, «осознание национального» его обитателями и их друзьями могло стать фактом мировой культуры, а не этнического самочувствия.
После беглых набросков о самых разных лицах мы наконец приближаемся к Беатриче Тургенева – к переписке по поводу его дочери, с трудом найденной среди дворни, появившейся на свет в разгар премухинского «романа» и отнятой у матери Варварой Петровной. Девочка была привезена в Спасское и устроена на «заднем дворе», возможно, из-за незабытой угрозы любимого сына жениться на белошвейке. Здесь нас и ожидает контраст со всеми «женскими» персонажами повести. Замешательство главного героя, его душевные муки из-за шутки, которую с ним сыграла, видимо, Афродита Пандемос, если прибегать к словам Зайцева, когда он сблизился с белошвейкой матери, сомнения, рассказывать ли об этом той, кого он боготворил, представлены в повести детально, как и история переправки дочери по инициативе Полины Виардо во Францию, где, как они надеялись, ее ожидала жизнь свободного человека. Сам подбор эпизодов, их последовательность в «линии Полины Виардо» призваны приблизить нас к пониманию если не самой любви, то участия друг в друге этих ярко одаренных и незаурядных по своим человеческим качествам людей, тех мгновений «преображения вблизи друг друга», о которых писал в своих воспоминаниях А.П. Боголюбов.
Малоизвестно, что славу великой певицы Полина Виардо «привезла» на родину из-за границы. Непрерывные заграничные гастроли, часто изнуряющие, а в 1846 г. оказавшиеся даже губительными, как считают некоторые исследователи, когда Полина Виардо заразилась в России коклюшем и это, возможно, привело к преждевременному увяданию ее голоса, имели свое объяснение. Триумф дебюта певицы в 1839 г. на сцене Итальянского театра, «мода» на нее в начале 1840 г. сменились глухим молчанием и интригами: контракт с ней не был подписан, и она выступала только на концертах, в том числе 21 февраля 1842 г. на концерте Шопена, где композитор ей аккомпанировал, а она впервые исполнила свой романс «Дуб и тростник» на стихи Лафонтена. Достойно внимания, что для романса ею было выбрано именно это стихотворение с его романтической темой – о яростном ветре, вырывающем с корнем дуб, еще недавно касавшийся главою небес. Сборы были огромными, тем не менее критика принимала певицу сдержанно. «Большую роль в недоброжелательной позиции, занятой журналистами», сыграли не только интриги в Итальянском театре, но и то, что «в конце 1841 г. Луи Виардо, Жорж Санд и Пьер Леру основали новый печатный орган “La Revue Indépendante”, который пользовался популярностью в кругах, настроенных оппозиционно к правительству Луи-Филиппа. Злободневное направление газеты раздражало журналистов противоположного политического лагеря, а ее успех у парижан вызывал зависть у издателей других газет и журналов»[166]. Таким образом, участие мужа певицы в общественной жизни мешало ее творческой карьере, что она переносила с большим терпением. А.Я. Панаева, «отрицательный» персонаж повести, как многие недоброжелатели, в напряженных гастролях Полины Виардо видела только «расчетливость».
К концу повести, сложенный из отдельных штрихов, оказывается нарисован и портрет старшего брата писателя. По воспоминаниям В.Н. Богданович-Житовой, воспитанницы Варвары Петровны, Иван Сергеевич не был «эффектным в салоне» в отличие от старшего брата – денди во всем, даже говорившего намного «красивей»[167]. По словам А.А. Фета, «Ник.Серг. в совершенстве владел французским, немецким, английским и итальянским языками. В салоне был неистощим», и Фет «не раз слыхал мнение светских людей, говоривших, что, в сущности, Ник. Сергеевич был гораздо умнее Ив. Серг. <…> Но зато Ив. Серг. был, как выражался про себя И.И. Панаев, “человек со вздохом”. Невзирая на внешнее сходство двух братьев, они были, в сущности, противоположностью друг друга. Насколько Ив. Серг. был беззаботным бессеребреником, настолько Николай мог служить типом стяжательного скупца…»[168]. Повесть дает представление о глубоком несходстве братьев, достигающем кульминации, когда мы видим Николая сквозь некую грустную завесу сердечного отношения к нему младшего брата, не претендующего на единственную тогда их общую собственность – весьма скромное отцовское Тургенево. Это можно считать «находкой»: тем ближе мы воспринимаем главного героя, обретшего свою семью, т. е. близких людей, в Куртавнеле: он не только не мог быть «барином», т.е. «крепостником» или обычным хозяином-помещиком, эта роль была ему бесконечно чужда. Таким образом, обращаясь к «житейскому», автор передает тот особенный взгляд Тургенева, с каким, вероятно, он рассказывал, не без юмора, случайно встреченному приятелю юности Феоктистову о Ржевском, или когда в Спасском перед ним выстраивались «парады» Варвары Петровны, где его встречали всем ее «царством», или наблюдая жену брата, и т.д., – взгляд не только проницательного человека, но и писателя, далеко вышедшего, по словам Зайцева, «за рамки бытописательства».
В контекст гуманитарных проблем эпохи вписан также эпизод, посвященный знакомству Тургенева с А.И. Гончаровым. Думается, Л. Утевский, исследователь биографии не только Тургенева, но и А.И. Гончарова, имел основания противопоставить двух начинающих писателей, и появление в повести развернутого портрета Гончарова нельзя считать лишь данью любознательности читателя. Перед нами противопоставление «по умолчанию», и ключевое слово в эпизоде этого знакомства – слово «чиновник», относящееся к Гончарову. Видимо, автор повести не разделяет мнение А.Ф. Кони, считавшего, что Гончаров был вынужден служить ради средств к существованию, карьера его увлекала. И действительно, вскоре (сравнительно с событиями повести) начинается его карьерный взлет – после путешествия на фрегате «Паллада» в 1852–1855 гг. в составе экспедиции Е.В. Путятина в Японию, целью которой было заключение с ней торгового соглашения, и из скромного служащего Министерства внешней торговли и автора «Обыкновенной истории» он превратится в крупного чиновника, ревностного цензора, друга и доверенное лицо вел. кн. Константина Константиновича (К.Р.), с благодарностью примет дарованное ему дворянство, поскольку тяготится купеческим званием. Не станет он и «мучеником своей любви» (как называл Тургенева Кони) к Елизавете Васильевне Толстой и т. д. и т.п. Его мнительность и подозрительность «чиновника в душе» выльются в скандальную историю о «воровстве» у него сюжетов Тургеневым, проясненную учеными. Автор «Обрыва» искренне полагал, что если бы не рассказал о замысле этого романа Тургеневу, в русской литературе не появился бы Тургенев – романист.
Завершает сцену натянутого общения двух начинающих писателей карикатура на Тургенева – отзыв о нем Гончарова, продиктованный, возможно, кроме личной антипатии, и тем, что Тургенев «не имел веса ни в Москве, ни в Петербурге». Читателю понятно, что в отличие от Тургенева Гончаров не воспринял традиций Московского университета, хотя и закончил в нем полный курс, и его контакты с Белинским, о чем напоминает автор повести, продиктованы желанием быть напечатанным и приобрести «имя». Близкие Гончарову люди собирались в салоне Майковых, «барско-эстетском», где был «пригрет» Бенедиктов, как пишет А.Г. Цейтлин в своей книге о Гончарове[169]. Злая карикатура на близорукого и взволнованного Тургенева, набросанная в повести по впечатлениям самого Гончарова, согласуется с тем, что он никогда не хвалил собратьев по перу.
Возможно, размышления об этих двух великих русских писателях натолкнули автора на такую выразительную характеристику своих персонажей, как любовь к книгам. Практически с самого начала повести мы узнаем о волнующем запахе книг, который открывает для себя мальчик Тургенев во время одной из «вылазок» в огромную библиотеку Спасского, – этой «вылазке» посвящен отдельный этюд. Библиотека Спасского действительно была большой, сформированная несколькими поколениями обитателей имения: И.И. Лутовиновым, дядей по отцу Варвары Петровны, для которого не прошло бесследно приятельство по Пажескому корпусу с выдающимися людьми своего времени – А.Н. Радищевым, автором «Путешествия из Петербурга в Москву», и знаменитым генералом войны 1812 г. А.П. Тормасовым, отстраивавшим Москву после пожара, смельчаком и щеголем, прославившимся больше всего «равным вниманием и к богатому и к бедному», – в библиотеке были хорошо представлены французские просветители; немало было «путешествий», которые любила читать Варвара Петровна, а также романов и книг по садоводству; имелись книги XVIII в. на немецком языке – Сергея Николаевича Тургенева, знавшего немецкий язык, привезенные из заграничного похода, кроме того, здесь был экземпляр подаренного ему «Опыта теории налогов» Н.И. Тургенева[170]. Книги появляются рядом с главным героем постоянно – пачки, стопки, узнаем мы и о библиотеке стесненного в средствах Белинского. Между тем известно, что Гончаров не был книголюбом, его библиотеку составляли в основном подаренные ему книги.
Особого внимания заслуживает зарисовка первого знакомства Тургенева с Достоевским, появление этой зарисовки еще раз указывает на внимание автора к запутанным темам: известно, что в длительном знакомстве этих писателей было много драматичного, определявшегося их представлениями о будущем России, разной манерой письма, в итоге враждебное отношение к Тургеневу и его друзьям было увековечено Достоевским в романе «Бесы», где он дал, как пишет А.Ф. Кони, «дышашее ненавистью изображение Тургенева под именем Карамзинова»[171], но сейчас молодые люди буквально очарованы друг другом. За ракурсом этой зарисовки ощутим контекст встречи двух начинающих писателей, идейная борьба того времени, подробно проанализированные Л.М. Лотман[172]. Автору повести удается в немногих словах не только сделать узнаваемыми героев этой зарисовки, но обозначить перспективу их взаимовлияний, анализу которых посвятила свою статью исследовательница.
Предыстория первого знакомства Тургенева с Достоевским, как пишет Л.М. Лотман, знаменовала новый этап в литературном процессе. Тургенев был автором поэтического «Разговора», одной из мишеней в споре славянофилов с западниками, в частности, по вопросу веры. В споре с «европеистами» Константин Аксаков отказывал автору «Разговора» в таланте и самобытности, видя в нем подражателя Лермонтова, а Достоевский, автор «Бедных людей», занимал сторону Тургенева и Белинского, с которым в тот период тесно общался. «Разговор» – это спор в поэтической форме двух голосов: молодого человека, недовольного собой и жизнью, и старца, отшельника, строго спрашивающего с него, какому богу он служил. Ответ молодого человека, готового пойти и «на гибель, на позор», если «пророк святой» призовет его на «великое дело», не мог не заинтересовать Достоевского, для которого «ситуация ученичества, сомневающегося и ищущего своей правды и веры послушника едва ли представлялась литературной», «самая форма поэмы «Разговор» — спор двух голосов», привлекала Достоевского, как это следует из его творчества и переписки. Поэма «Разговор», вероятнее всего, была не просто известна Достоевскому, «скорее всего, он знал и те ее детали, которые были смягчены или искажены при ее публикации из цензурных соображений»: так, участвующий в разговоре старик везде назывался в рукописи монахом.
Восторженный отзыв Достоевского о Тургеневе после первой их встречи, который считает нужным привести автор повести, его причины объясняются существом литературной полемики, проанализированной Л.М. Лотман, а также характером Федора Михайловича, проницательно охарактеризованном в воспоминаниях друга и поклонника его творчества А.Е. Врангеля, назначенного в 1854 г. прокурором в Семипалатинск, где находился в это время на солдатской службе «петрашевец» и будущий создатель «Братьев Карамазовых». Едва Врангель извинился перед солдатом, вызванным к нему, — в том, что не сам пришел передать письма и посылки, как Достоевский повеселел и «стал доверчив». Юный Врангель – ему тогда был 21 год, передает все повороты этой, видимо, самой поразительной в его жизни дружбы. После участия в подготовке в 1858–1859 гг. Айгунского договора с Китаем Врангель успешно продвигался по дипломатической службе, но продолжал материально помогать Достоевскому[173] и навсегда остался поклонником его таланта. Тургенев к моменту знакомства с Достоевским был искренне восхищен «Бедными людьми», только что напечатанными, соответственно, как это было ему свойственно, и их автором, и, видимо, первая встреча двух весьма оригинальных молодых людей была действительно искренней и волнующей для обоих. Мало того, как убедительно показывает Л.М. Лотман, «Бедные люди», с их темой «маленького человека», повлияли на Тургенева как художника.
Вместе с тем впечатления от творчества Тургенева повлияли на Достоевского, начиная с Трусоцкого из «Вечного мужа», написанного под впечатлением от Ступендьева из «Провинциалки» Тургенева, «добренького» маленького старичка, мелкого чиновника, напоминающего нахлебника из одноименной пьесы, «несчастного скитальца в родной земле» (как сказал Достоевский в Пушкинской речи, цитируя характеристику молодого человека из тургеневского «Разговора»). По словам Л.М. Лотман, «Тургенев, который учитывал художественный опыт Достоевского при работе над пьесами, раскрывавшими трагизм жизни маленьких людей, в свою очередь, своими комедиями дал Достоевскому новые творческие импульсы, побудил его к соревнованию в разработке определенного круга ситуаций и характеров»[174].
Что касается пьес Тургенева, о создании которых мы узнаем из повести, то они получили резонанс благодаря своим «читкам» в Москве и Петербурге одновременно с охотничьими рассказами, печатавшимися в периодике. Драматургия Тургенева, также проанализированная Л.Ю. Лотман – с точки зрения его вклада в развитие жанра, в дальней перспективе, имела, по мнению исследовательницы, огромное значение: как принадлежащая новому театру, новаторство которого было воспринято А.П. Чеховым. «Следуя за Гоголем», Тургенев подходил к сюжету «как писатель новой генерации», считая театр «непосредственным произведением целого общества, целого быта», и главным в его театре стало стремление к острым бытовым характеристикам и созданию на сцене полной иллюзии реальной жизни. Уже в «Стено», о создании которой подробно рассказывается в повести, можно видеть черты творческой оригинальности Тургенева как драматурга, выражающейся прежде всего в создании образа рефлектирующего героя и относительной реальности, конкретности обстановки действия. «…Знакомство с Герценом и другими “людьми 40-х годов” открыли Тургеневу исторический образ времени, воплощенный в “живых личностях”», – пишет М.Ю. Лотман, проясняя таким образом старую проблему самостоятельности / несамостоятельности пути Тургенева в литературу. По мнению исследовательницы, уже в период расцвета «натуральной школы», в 1840-е годы, когда «бытовая сценка – физиологический очерк в диалогической форме» превратилась в ее «излюбленный» жанр, Тургенев создает нечто принципиально новое, что подтверждает даже простой список сюжетов для очерков на «городские» темы с их «диалогами», в котором исследовательница видит закономерную для Тургенева «драматизированность» (этот список приводится в повести). По мнению Л.М. Лотман, «путь к пониманию драматургии Тургенева» открыла драматургия А.П. Чехова, — с ее «конкретностью обстановки, атмосферой бытового общения» и «вялым», но внезапно «взрывающимся» действием, «амбивалентными характеристиками героев»[177]. Именно 1840-е – начало 1850-х годов были «временем наиболее интенсивной деятельности писателя в области драматургии, наиболее углубленных его размышлений над вопросами истории и теории драмы», о чем, читая повесть, мы получаем хотя и общее, но не противоречащее современным научным разработкам представление.
Причины часто несправедливого отношения к Тургеневу просматриваются в ревнивых словах о нем Е. Феоктистова: «Природа была щедра к нему, и обстоятельства сложились так, что на жизненном пути своем он встречал только цветы и никаких терний; за исключением пресловутой ссылки в деревню, которая… вовсе не была для него особенно страшной, он не испытал невзгод; утраты близких ему лиц не причиняли ему глубокого и продолжительного горя, он не способен был сильно любить…» и т.д. То же предубеждение, как ни странно, сказывается в оценке Н.А. Тучковой-Огаревой вместе с признанием тургеневского таланта: «С двадцатипятилетнего возраста он был избалован судьбой, слава его все росла; впоследствии благодаря переводам Виардо он стал не менее известен и в Европе; перед ним широко растворялись двери лучших салонов Парижа и Лондона, он становился баловнем счастья, как вдруг родная страна отшатнулась, отвернулась от него, и за что? За изящную фотографию нигилизма в России… Он писал, как соловей поет, без намерения уязвить чье-нибудь самолюбие, он писал потому, что это было его призвание…»[178].
Из многочисленных дарований Тургенева, включая его человеческие качества, лишь дарование шахматиста не нашло отражения в повести, упоминаются только партии на пароходе «Николай I» перед пожаром и с А.А. Тучковым в доме Герцена: в первом случае автору важно передать атмосферу безмятежности, во втором – показать, что Тургенев проводил много времени в доме Герцена и стал там своим человеком. Конечно, «малосценичную» по существу зарисовку какой-либо шахматной партии довольно трудно вписать в динамичную повесть. Но даже если бы автор справился с этой задачей, могла возникнуть другая проблема – восприятия шахматной игры как развлечения «интеллектуалов», «господ», выдвигая на первый план некую «рационалистичность» Тургенева, между тем находившую выход только в этой игре, даже не в охоте, также требующей хладнокровия и расчета, с которой писатель, однако, часто возвращался без обычных трофеев, она была для него скорее переживанием, чем спортом. Интересно в связи отсутствием в повести «шахматной темы», что, например, А.Ф. Кони видел «рационалистичность» в самой манере Тургенева рассказывать. Вспоминая свои встречи с Л.Н. Толстым, Кони сравнивал Толстого с другими писателями: «Мне трудно припомнить все наши разговоры, и все узоры той роскошной ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил Толстой. Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям и наблюдениям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни. Я помню Писемского… Его рассказ не был тонким рисунком искусного мастера, а был декорациею, намалеванною твердою рукою и яркими красками. Совсем другою была речь Тургенева… Это был искусно распланированный сад, в котором широкие перспективы и сочные поляны английского парка перемежались с французскими замысловатыми стрижеными аллеями и даже каждая тропинка являлась результатом целесообразно направленной мысли. И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая картины Рубенса, написанные… сочными и густыми красками, с одинаковою тщательностью изображающие и широкие очертания целого, и мелкие подробности частностей…»[179] и т.д.
Распространенное представление о Тургеневе как человеке «рассудочном» и «элитарном» (соответственно «лукавом»), возможно, и заставило автора отказаться от разработки «шахматного» сюжета. Стоит заметить, что, по мнению ученых-психологов, игра в шахматы, самая «правдивая из игр», способствует воспитанию воли, решимости и эмоциональной устойчивости, восприятию «беспощадной правды», в том числе по отношению к себе[180]. Таким образом, статус Тургенева как лучшего среди писателей шахматиста только подтверждает общий взгляд автора повести на своего героя как сильную натуру при всей мягкости его характера[181].
В разговорах с Л. Толстым, о которых вспоминает Кони, когда выносились и моральные суждения о тех или иных литераторах, в частности, говорилось о том, что порочный человек не всегда дурной (речь шла о Некрасове), Кони подчеркивал, что Некрасов и Тургенев научили молодое поколение, «родившееся и воспитанное в городах», «знать, ценить и любить русскую природу и простого русского человека»[182], но не развивал эту мысль: возможно ли было такое воздействие без того сердечного тепла, которое превращало их творчество из «бытописательства» в «пространство трагедии», по словам Б. Зайцева, т.е. без горячего восприятия общечеловеческих ценностей. Объяснение особого воздействия на публику драматургии Тургенева также связано с ее «трагическим аспектом», который он обнаружил в жизни господствующего класса, в «социальном эгоизме», который стал законом поведения и обращал обычных нормальных людей в «помпадуров» и «помпадурш»[183].
Как видим, в Б. Зайцеве как биографе Тургенева побеждает писатель, воспринявший литературные баталии времен своей молодости, в Корнилове как биографе Бакунина – политик, конституционный демократ из дворянства, в Л.С. Утевском – писатель XX в., с его особым вниманием к самочувствию отдельного человека, его праву быть собой. Видение времени и людей, находящее подтверждение в научных работах последних десятилетий, пронизано самой атмосферой «русской трагедии», обоснования движения России в будущее. Такие нити авторского рассказа, как Тургенев –– Белинский, Тургенев – Бакунин, Тургенев — Герцен, Тургенев – семья Виардо, Тургенев – III Отделение и т.д., образуют, с одной стороны, каркас повести, а с другой – связь с «подземной рекой» исторических фактов, и хотя в повести только ставятся вопросы, «страдальцы» «русско-нерусской идеи» становятся нам ближе. Мы видим, что дружба Тургенева с выдающимися людьми своего времени, столь важная для него, но не в смысле «подпитки» «энтузиазмом», как считал Б. Зайцев, а в смысле расширения поля зрения, отвечавшая натуре человека «социальной жилки», помогла ему найти свой путь в литературу. Он не стал «зеркалом русской революции», как назвал Ленин Л.Н. Толстого, не стал он, как Л.Н. Толстой, и гением психологизма в русской литературе, повлиявшим даже на М. Пруста[186], прозаика новой цивилизационной эры, но он стал общеевропейским писателем. В его рассказах и пьесах, читавшихся по спискам, звучали темы защиты человеческого достоинства, метаний интеллигенции, с ее неудовлетворенностью, духовного освобождения личности. Во многом благодаря этому «померкший» для соотечественников Тургенев и «привел» вместе с собой русскую литературу в европейскую культуру с ее тоской по идеалу. Тот же Б. Зайцев, в основном снисходительный к Тургеневу, восхищенно писал: «На международном литературном конгрессе 78 года в Париже Тургенева выбрали вице-президентом, он сидел рядом с Гюго, и председательствовали они по очереди… Гюго гремел, Тургенев скромно прочел речь о русской литературе – имел очень большой успех. Серебряная голова, фрак, белый галстук, пенсне, негромкий высокий голос, отсутствие рисовки… все до слушателей “дошло”. Русская литература никогда еще не занимала такого места – ее вознес Тургенев… перед лицом Европы»[187]. Способность Тургенева «бескорыстно радоваться успехам собратьев по перу и пропагандировать их творчество» играла в этом немалую роль, как подчеркивает Л.М. Лотман, отсылая читателя к статье М.П. Алексеева «И.С. Тургенев – пропагандист русской литературы на Западе» 1948 г. и называя среди таких «собратьев по перу» Ф.М. Достоевского[188].
Завершить предварительные замечания хотелось бы уже без сверки повести с современными научными разработками затронутых в ней проблем — как ее читателю. Среди специалистов по выявлению «художественного мастерства», филологов, Тургеневу, «отодвинутому в прошлое» Толстым и Достоевским, принято «отдавать дань» за главное его «приношение» русской литературе — «историческую типизацию». Справедливость этой оценки не вызывает сомнений, но, как говорится, вопрос любви всегда остается открытым, особенно если не знать, кто послужил прототипом того или иного образа. Многие читатели продолжают нуждаться в творчестве Тургенева, несмотря на его «просчеты», как нуждались в нем А. Чехов, И. Бунин, Б. Зайцев. От крепостного права следа не осталось, – писал Зайцев о «Записках охотника». — Художество маленьких тургеневских очерков не потускнело»; «поэзия остается сама по себе, над всем»[189]. Многочисленные «импрессионистические» находки Тургенева, можно полагать, не могли не произвести впечатления на будущего создателя «скупой» реалистической прозы А.П. Чехова[190], интерес которого к первому собранию писем Тургенева, как и «особую их популярность в кругу русских литераторов», отмечал акад. М.П. Алексеев. В юности Чехов был особенно увлечен речью Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», которую буквально навязывал окружающим[191], задуманную в 1850-х годах и содержавшую анализ «двух типов» «человеческой природы» и своего рода жизненное кредо Тургенева. Речь завершалась словами: «Но добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей красоты; “все мнится, — сказал апостол, — одна любовь останется”. Нам нечего прибавлять после этих слов»[192].
Стоит помнить, что эти слова были произнесены человеком из православной семьи, хотя, как и в большинстве дворянских семей того времени, религиозность у Тургеневых не превращалась в спектакль в народном духе. Интересно в связи с этим замечание самого Тургенева в письме И.Ф. Миницкому от 12 мая 1853 г.: «…Знайте, без веры, без глубокой и сильной веры не стоит жить – гадко жить; знайте, что это говорит Вам человек, про которого, может быть, думают, что он весь насквозь проникнут иронией и критикой, но без горячей любви и веры – ирония – дрянь – и критика хуже всякой брани. Если разобрать поэзию зла, воплощенную в типе сатаны, то и в ней мы найдем основанием – бесконечную любовь, – вспомните Consuelo. Во всяком случае, будемте людьми – и постараемся быть ими как можно долее –"С богом, и в трудную дорогу!"»[193].
Речь «Гамлет и Дон Кихот» огромное впечатление произвела на Георга Брандеса, выдающегося датского критика, «увлекавшегося миром идей и образов Тургенева», он откликнулся на нее в 1910-х годах своей «фантазией» «Дон-Кихот и Гамлет». Скандинавы ценили в Тургеневе знатока человеческой натуры и мастера психологической характеристики, отдавали должное тургеневскому искусству социальной трактовки характеров, умению Тургенева рисовать природу «во всей ее зримой конкретности и поэтичности», с его «мягким лиризмом стиля», «восхищались духовным благородством русского писателя». По словам Фредерика Вильгельма Мёллера, редактора копенгагенского либерального журнала «Nutiden» и переводчика произведений Тургенева, «ни один крупный автор наших дней не отразил в своих сочинениях жизнь так, со всей ее естественностью и многообразием, красками и формами», как Тургенев, «величайший поэт всех времен»[194]. На тургеневские «Записки охотника» и «Sеnilia» – «образцы», соединявшие утонченный стиль, «сочный импрессионизм» и философский подтекст, ориентировался, по его собственному признанию, в начале своего творческого пути шведский поэт-символист Вильгельм Экемунд[195]. Влияние Тургенева на Августа Стринберга общеизвестно, под влиянием Тургенева он написал свои «Стихотворения в стихах и прозе». В творчестве русского писателя его привлекали «стремление к полноте художественной гармонии», а также «тема любви к родине, а тем самым к европейскому человечеству». Противопоставление Тургеневу Золя и его школы, с их «холодным космизмом», высказанное шведским неоромантиком Вернером фон Хейденстамом[196], многое объясняет в восприятии Тургенева в скандинавских странах, где под его влиянием возник «особый жанр – лаконичный этюд». В России между тем, как показывает в своей монографии «Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы)» тартуская исследовательница Леа Пильд, продолжал сказываться «тургеневский миф», созданный при активном участии русских «почвенников», строившийся «как ряд обвинений в аристократической элитарности Тургенева и оторванности от родной "почвы"». Этим мифом объяснялись и «объективное стремление новаторов (прежде всего символистов "старшего" поколения) отмежеваться от непосредственного предшественника в русской литературе», и стремление «"младших" символистов (в первую очередь А. Блока и в определенной мере А. Белого) освободиться от дворянского комплекса социальной вины». Тургенев «тем не менее осознавался русскими символистами на протяжении всей эволюции направления не только как непосредственный предшественник, но и как художник, близкий по типу литературного поведения», судя по их не публиковавшимся при жизни дневниковым записям и письмам; в этих источниках прослеживается стремление реабилитировать Тургенева как «гармоничного художника»[197].
Перипетии восприятия творчества писателя на родине, к сожалению, вылились в тот «компост» учебной литературы, который затрудняет знакомство с писателем, остававшимся, как никто другой, на протяжении всей жизни самим собой. И «светлая тональность» необычного рассказа о его молодых годах, годах становления, которая, возможно, покажется некоторым читателям «анахронизмом» – в эпоху постмодерна (или даже постпостмодерна), согласуется с избранным сюжетом: творчества как свободы и личного счастья наряду со стремлением к «добрым делам». Эта тональность сказывается во всем — и в трактовке личности главного героя, искания которого, созвучные эпохе, теперь прояснены учеными, и в характеристике его окружения, и в характеристике его творческих планов. Из повести мы узнаем о человеке, растроганном перед лицом дивного творения, каким предстает перед ним мир в лучшие минуты жизни. Узнаем мы и том, что без музыки, ее волшебных звуков, он не мог жить. Часто, «приступая по утрам к писательской работе, он был еще полон струнных звуков и пропетых слов вчерашнего вечера», как пишет Л. Гроссман. Музыка, ее стихия, не переставала владеть душой Тургенева на протяжении всей жизни и диктовала особое отношение к слову, когда даже зуденье комара превращалось в поэтическое музыкальное соло, на что обращает внимание автор повести. Если попробовать переложить на музыку приводимый автором набросок стихотворения в прозе, написанный в Куртавнеле задолго до появления «Sеnilia», определенно получится выразительный музыкальный этюд. Этот взгляд автора на своего героя как цельную личность, донесенный до читателя, по-видимому, и составляет один из «секретов» его повести.
Может быть, и повесть Л.С. Утевского, и слова одного из ее персонажей Павла Анненкова, развеют и самый нелепый миф, муссирующийся в последнее время, – о сотрудничестве Тургенева со спецслужбами. Многое повидавший, многое переживший, Павел Васильевич писал: «Было что-то наивно-детское, ребячески-прелестное в образе человека, так полно отдававшего себя в ежедневное безусловное обладание мечты и выдумки…».
В самом деле, не это ли своего рода ключ к дерзанию «независимого труда, таланта, знания» человека «большого имени»?
2. ↑ Богословский Н.В. Тургенев. М., 1959 (переиздана в 1964 г.); Лебедев Ю.В. Тургенев. М., 1990 (первые издания – 1961, 1964 гг.); Труайя Анри. Иван Тургенев / пер. Л. Сережкиной. М., 2007. – Анри Труайя – псевдоним Левона Аслановича Торосяна (Льва Аслановича Тарасова), французского писателя из семьи российских эмигрантов, автора «Русских биографий», многократно переводившихся на многие языки мира.
4. ↑ Там же. С.14–15.
5. ↑ Там же. С.23.
6. ↑ Любопытно, что в книге практически сверстника Л.С. Утевского, московского литературоведа Н.В. Богословского, опубликованной в серии ЖЗЛ, автора биографии и Н.Г. Чернышевского из той же серии, в какой-то мере ощутима близкая установка, придающая изложению выразительность. Не случайно жанр этой книги получил название «романизированной биографии». Однако Н.В. Богословский остерегается слишком приблизиться к своему главному герою, не избегает он и «описательности» – так сказать, техники «накладного декора», демонстрирующей стремление отдать дань советским условностям, таким образом в его книге опущены важные для своего времени культурологические проблемы, что-то смягчено или искажено, например, традиционно негативно трактуется личность отца писателя С.Н. Тургенева, а М. Бакунина автор называет «мелкобуржуазным революционером» и т.д.
9. ↑ Подобное обращение с цитатами характерно для жанра «рассуждений», открытого в свое время А.И. Герценом и воспринятого Л.Н. Толстым (подробнее см.: Гинзбург Л.Я. О психологической прозе), – эмоционально окрашенного анализа, разворачивающегося в своей системе художественности, практически исключающей обычные приемы цитирования. Уместно в таком жанре, его стилистике, воспринятой автором повести, и написание иноязычных слов и выражений согласно современным литературным нормам, поскольку аутентичное их написание могло бы показаться «ошибочным» и потребовало бы сугубо научных лингвистических экскурсов в историю европейских литературных языков. Существенно, что приводимые цитаты, как и иноязычные составляющие текста, совпадают по смыслу с их опубликованными источниками.
10. ↑ См.: Зайцев Борис. Жизнь Тургенева. Тула, 2007. С.76 и др. – Впервые это произведение было опубликовано на страницах «Современных записок» в Париже (1930. №44–47), там же вышло отдельной книгой в 1949 г.; на родине писателя впервые появилось в журнале «Юность» в 1991 г. (№1–2), включено в собрание сочинений 90-х годов (Зайцев Б. Собр. соч.: в 5 т. Т.5. М., 1999).
12. ↑Ныне въезд в Спасское осуществляется с противоположной стороны, со стороны храма и семейного склепа, разрушенного во время войны и недавно восстановленного, где похоронен младший брат Тургенева Сергей, один из «фоновых» персонажей повести. Подробнее см.: Александрова Л.М. Музей Тургенева в годы войны // Тургениана. Вып.2-3. Орел, 1999.
16. ↑ Малоизвестные неспециалистам факты, события и детали, проясняющие взгляд автора на своих персонажей и затрагиваемые им события, охарактеризованы в затекстовых примечаниях.
20. ↑ Там же. С.14.
22. ↑ Ленинградский мартиролог. 1937–1938. Т.4. СПб., 1999. С.44.
23. ↑ Имя Эрнестины Утевской среди имен студентов ЛГУ, отличившихся в ПВО, высечено на памятной доске, установленной на стене Главного здания ЛГУ–СПбГУ в память о блокадных днях. Упоминание о ней можно найти в «Книге памяти Ленинградского – Санкт-Петербургского университета» (Вып.1. СПб., 1995). Похоронена на Пискаревском кладбище.
25. ↑ От Н. Сорокиной архив Л.С. Утевского поступил в Пушкинский Дом; в составе фонда «Л.С. Утевский» находятся и черновики публикуемой рукописи (машинопись) с еще не определившимся окончательным названием; публикуемый текст, видимо, более поздний, был передан мне для подготовки к печати младшей дочерью Л.С. Утевского Натальей Львовной Утевской.
26. ↑ Сын Н. О. Комиссарова, на чем настояла его мать, не был усыновлен Л.С. Утевским, но в официальных бумагах Утевский указывал его как сына и действительно заменил ему отца. О роли Л.С. Утевского в становлении будущего ученого см.: Массов А.Я. Профессор Борис Николаевич Комиссаров: очерк научной деятельности // Путь ученого: к 70-летию Бориса Николаевича Комиссарова. СПб., 2010. – А.Я. Массов в своем очерке, в частности, пишет: «Интерес Бориса к истории русского флота (речь идет о работе четверокурсника, касавшейся русского присутствия в Латинской Америке, т.е. посещения ее портов участниками русских кругосветных и полукругосветных плаваний, исследований российских ученых-путешественников. – И.К.) был в известной мере спровоцирован его наставником Л.С. Утевским. В 1943 г. по договору с одним из издательств тот написал научно-популярную книгу об адмирале Михаиле Петровиче Лазареве, трижды кругосветном мореплавателе, первооткрывателе Антарктиды, командующем Черноморским флотом России. Книга по каким-то причинам издана не была, но ее рукопись Борис впоследствии читал, причем с особым интересом о посещении кораблями Лазарева Бразилии, Перу и Калифорнии, входившей позднее в состав Мексики. Вскоре стало ясно, что научное направление было выбрано верно (источниковедение истории стран Латинской Америки. – И.К.)» (Там же. С.16).
28. ↑ Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 106.
29. ↑ См. напр.: Петров С.М. И.С. Тургенев. Критико-биографический очерк // Тургенев И.С. Собр. соч.: в 12 т. Т.1. М., 1953. — Интересно, что в издании 1983 г. «И.С. Тургенев в воспоминаниях современников» С.М. Петров (автор предисловия и составитель) избегает столь плоских заявлений, хотя по-прежнему отсылает читателя к Ленину, правда, в другом смысле. Он, например, пишет: «Мировоззрению Тургенева всегда были присущи просветительские демократические тенденции, которые, по определению Ленина, заключались во вражде к крепостному праву, в защите культуры, просвещения, свободы убеждений и слова», и «заслуга народнической мемуаристики прежде всего в том, что она развеяла легенду об аполитичности Тургенева… Еще Герцен заметил, что с “Отцов и детей” Тургенев становится писателем-политиком. Его чувство гражданственности, его интерес к политическим вопросам современной ему жизни в Западной Европе и в России особенно обострились в семидесятые годы» (И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: в 2 т. /сост. и подготовка текста С.М. Петрова и В.Г. Фридлянд. М.,1983. Т.1.С. 11, 15). Не критикует автор предисловия как «реакционера» и Ф.М. Достоевского — с его интересом к «безднам человеческого характера», правда, «болезненным».
30. ↑ Оксман Ю.Г. Секретное следствие о «Записках охотника» // Оксман Ю.Г. От «Капитанской дочки» до «Записок охотника». Саратов, 1959.
32. ↑ Гроссман Л.П. Портрет Манон Леско // Гроссман Л.П. Литературные портреты /сост., вступ. ст., примеч. С.Ф. Дмитриенко. М., 2010. С.226-227.
34. ↑ Не отражены в повести и другие интересные эпизоды (более раннего времени): путешествие И. Тургенева по Германии в 1838 г. в обществе барона Д.Г. Розена, сына героя Отечественной войны, «простого, но очень милого малого», по словам В.Н. Станкевича, или охота вместе с П.В. Зиновьевым на берегах Ладожского озера.
36. ↑ Подробнее о Луи Виардо см.: Звигильский Александр. Луи Виардо // Звигильский Александр. Иван Тургенев и Франция: сб. статей / пер. с фр. М., 2010 (Тургеневские чтения, вып.3); Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. Л., 1978. – В Петербурге Виардо посещали музыкально-литературный салон Виельгорских, где бывали Пушкин, Глинка, Гоголь. О посещении ими бала у Е.П. Ростопчиной рассказывает в своих воспоминаниях князь А.В. Мещерский, обращая внимание на ироничное отношение к Полине Виардо в кругу русской аристократии, несмотря на признание ее таланта. Своим впечатлениям о «русской охоте» Луи Виардо посвятил две книги. «Охотничьи» очерки были востребованным жанром, отражая важную составляющую дворянской культуры. Сохранилась записка Луи Виардо, которой он приглашал Тургенева в манеж «поработать», подтверждающая установление между ними дружеских контактов (Понятовский А.И. Автограф Тургенева и записка Луи Виардо // Тургеневский сборник. Т.V. Л., 1969. С.252–254).
38. ↑ См.: Голованова Т.П. Тургенев в кругу петербургских украинцев // Тургеневский сборник. Т.V. Л.,1969. С.363–373.
39. ↑ Гуманитарной составляющей умственного брожения тех лет, в частности, значению кружка Станкевича в контексте духовной жизни XIX в. посвящена диссертация французского ученого А. Бурмейстера «Станкевич и гуманитарный идеализм 1830-х годов» (1974 г.); тема продолжена в его недавней книге «Духовность и Просвещение. У истоков русского самопознания» (Тюмень, 2010 г.).
47. ↑ Лотман Л.М. Драматургия Тургенева // Тургенев И.С. Полн. Собр. соч. и писем: в 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Т.2. Сцены и комедии. М., 1979. С.536.
48. ↑ Герцен А.А. Русские тени // Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С.92.
49. ↑ Цит. по: Н.П Огарев в воспоминаниях современников. М., 1989. С.133.
50. ↑ В статье В.А. Лукиной возвращение Тургенева на родину и поступление в Министерство внутренних дел трактуются как политический шаг.
53. ↑ Подробнее см., в том числе о В.И. Дале в Петербурге: Г.П. Матвиевская, А.Г. Прокофьева, И.К. Зубова, В.Ю. Прокофьева. Жизнь и творчество В.И. Даля в Оренбурге. Оренбург, 2011.
54. ↑ Шкерин В.А. Просвещенный министр или вор-аристократ // Уральский вестник. 2008. №3(20). – Некоторые исследователи считают, что отход от декабристского движения Л. Перовского относится ко времени создания Военного общества после самороспуска Союза Спасения.
56. ↑ Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М.,1987. С.94–96.
57. ↑ Ионас Г. Юлиан Шмидт о творчестве Тургенева / пер. Р.Ю. Данилевского // Тургеневский сб. Т.V. Л.,1969. С.282.
59. ↑ Представление о самоощущении участников декабристского движения и духовно близких к ним людей, т.е. о процессе зарождения в обществе новой этики, менере жить интеллигентных дворян, можно вынести из работ Ю.М. Лотмана, в частности, из его лекций о русской культуре (Лотман Ю.М. Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2005).
60. ↑ М.Н. Катков – общественный деятель, публицист, издатель консервативно-охранительного направления, в юности входил в кружок Н. Станкевича; Н.М. Головнин – активный участник реформ 60-х годов, внесший большой вклад в реформирование системы образования, в частности, увеличивший автономию университетов.
62. ↑ «На котором отяжелело проклятие времени», «отдувавшееся не за себя, а за все общество».
64. ↑ Подробнее об отношениях Герцена со славянофилами, в том числе за границей, см.: Тесля Андрей. Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение.2013.Т.12. №1.
66. ↑ Подробнее см.: Тарасова В.М. О времени знакомства Тургенева с Н.И. Тургеневым // Тургеневский сборник. Т. I. Л., 1964.С.276–277.
68. ↑ Н.П. Огарев в воспоминаниях современников. С.378.
69. ↑ А.И. Гончаров в воспоминаниях современников. Л.,1968. С.73.
70. ↑ Подробнее см.: Конобеевская И.Н. Парижская трилогия и ее автор // Анненков П.В. Парижские письма / изд. подготовила И.Н. Конобеевская. М., 1983.
71. ↑ Книга «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. Анненковым», вышла в 1857 г.
73. ↑ Альбом, фигурирующий в повести, принадлежал ей (хранится в ИРЛИ).
74. ↑ Подробнее см.: Серебряный век в фотографиях А.П. Боткиной. М., 1998. С.51–82.
75. ↑ Боткин В.П. Письма об Испании / изд. подготовили Б.Ф. Егоров, А. Звигильский. Л., 1976.
78. ↑ Там же. — В своей ранней статье «Последняя поэма Тургенева (“Senilia")», анализируя архитектонику так называемых «Сенилий» («Старческое»), а также музыкальные вкусы Тургенева, автор приходит к выводу, что в этом произведении писатель завершает свои долголетние раздумья о космосе, природе, Христе, человеке, Любви, Смерти, Судьбе, испытав влияние философии А. Шопенгауэра. В 1960–1970-е годы этот вывод ученого считался «предвзятым».
79. ↑ Белинский в неизданной переписке современников. С.96.
80. ↑ Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М., 1987. С.77. – Первым консультантом автора во время работы над «Шарманщиком» был его приятель Ф.М. Достоевский.
82. ↑ Громов В.А. Гоголь и Тургенев // Тургеневский сборник. Т. V. М., 1969. С.356, 360 и сл.
83. ↑ Белинский в неизданной переписке современников. С.136.
84. ↑ Там же. С.202.
86. ↑ Зайцев Борис. Жизнь Тургенева. С.67.
87. ↑ Н. Некрасов. «Тонкий человек» и другие неизданные произведения /собрал и пояснил Корней Чуковский. М., 1928.
88. ↑ Цит. по: Чернов Николай. Спасско-Лутовиновская хроника. С.310.
90. ↑ В частности, он преподавал в 1-м Кадетском корпусе, где работал Н.Н. Прокопович, близкий знакомый Гоголя с детских лет.
91. ↑ Панаев И.И. Из «Литературных воспоминаний» // Белинский в воспоминаниях современников. М., 1961.С.293.
92. ↑ Чернов Н.М. Тургенев в Москве // Библиотека «Русский писатель И.С. Тургенев». http:// www. turgenev.org.ru (дата обращения: 16.01.2013). – Под «наиболее деликатными нуждами» автор подразумевает розыски Тургеневым сына от крепостной девушки Феоктисты (Фетиски), не увенчавшиеся успехом.
93. ↑ Там же.
95. ↑ Там же.
96. ↑ О личности Кавелина см.: Бобровский П. Кавелин – учитель. СПб.,1910.
97. ↑ Подробнее см.: Гуртовая Я.В. Идейно-художественное своеобразие очерка И.С. Тургенева «Встреча моя с Белинским» // Науковi записки Харькiвського нацiонального педагогiчного университету iм. Г.С. Сковороди. 2013. Вип.3(2).
99. ↑ Его «Записка об освобождении крестьян с землей за выкуп при помощи государства» распространялась в списках, была опубликована в «Голосах из России» Герцена и Огарева и «Современнике» Чернышевского (1858 г.).
100. ↑ В связи с вопросом о самостоятельности / несамостоятельности Тургенева см., напр.: Генералова Н.П. Еще раз Белинский (О литературно-эстетических взглядах И.С. Тургенева) // И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы. Вып.1. СПб., 2009.
102. ↑ Речь идет о безобразной выходке Д.Ф. Трепова, распорядившегося высечь студента Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку во дворе дома предварительного заключения (подробнее см.: Кони А.Ф. Избранные произведения. С.578–579, 180).
103. ↑ Подробнее см.: Чайковская Ирина. 1) Иван Тургенев и Авдотья Панаева. За страницами панаевских воспоминаний // Нева. 2008. №8; 2) Три женщины. Три судьбы. Полина Виардо. Авдотья Панаева и Лиля Брик. М., 2014.
104. ↑ Белинский в неизданной переписке современников. С.216–217.
105. ↑ Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971.С.115–116.
107. ↑ Зайцев Борис. Жизнь Тургенева. С.189.
108. ↑ Для сравнения: оклад чиновника составлял в 1847 г. около 343 р. серебром, обычный обед стоил 15–20 коп. Подробнее о материальном положении мелкого чиновничества см.: Писарькова Любовь. Чиновник на службе в конце XVII – cередине XIX в. // Отечественные записки. 2004. № 2(17).
110. ↑ См., напр.: Чернов Николай. Спасско-Лутовиновская хроника. С.39. – Именно материалы слежки позволили исследователю в свое время установить имя последней любви С.Н. Тургенева – княжны Е.Л. Шаховской, которая послужила прототипом Зинаиды из рассказа И.С. Тургенева «Первая любовь».
111. ↑ Этот факт, как и факт близкой дружбы с И.С. Тургеневым, отражен в книге, написанной для ЖЗЛ московской исследовательницей биографии и творчества Герцена И. Желваковой (Желвакова Ирена. Герцен. М., 2010). Тургеневу, «проходному» персонажу в этой книге, отведена его обычная малопривлекательная роль.
113. ↑ Н.П. Огарев в воспоминаниях современников. М., 1989. С.327.
114. ↑ Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. С.58.
115. ↑ Об этом пишет и П. Анненков (Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989. С.364).
116. ↑ И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: в 2 т. Т.2. М.,1983. С.345.
118. ↑ Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. М., 1959. С.248.
119. ↑ См. впервые опубликованное А.Я. Звигильским письмо Тургенева к Полине Виардо от 22 февраля / 5 марта 1880 г., а также парижскую газету «Le Gaulois» от 1 июня 1882 г. с обращением к Александру III, написанным, по мнению исследователя, И.С. Тургеневым. Правозащитной деятельности И.С. Тургенева посвящена экспозиция Зала Прав человека в Музее Тургенева в Буживале, ряд публикаций на страницах журнала «Кайе». В первое полное собрание сочинений и писем И.С. Тургенева включены несколько писем той же направленности, адресованных Александру II: одно из них, от 15 (17 марта) 1859 г., касалось закрытия газеты «Slowo», выходившей на польском языке, и заключения в Петропавловскую крепость ее редактора Иосафата Огрызко (из-за опубликования в этой газете письма историка И. Левеля профессору Петербургского университета Антону Чайковскому и в целом теплого отношения к идеологу польской эмиграции), второе письмо, 1960 г., было реакцией на «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» – документ, распространявшийся в рукописных списках до опубликования Манифеста 19 февраля 1861 г. С этим документом был знаком и Н.И. Тургенев, выступивший за приостановку Манифеста.
121. ↑ Чернов Николай. Спасско-Лутовиновская хроника. С. 299 и др.
122. ↑ Цит. по: Там же. С.355.
124. ↑ Мельник Е.Г. Тургенев и Апраксин накануне реформ в Орле // И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы / отв. ред. Н.П. Генералова, В.А. Лукина. Вып.3. М.; СПб., 2012.
126. ↑ Это определение принадлежит Л.Я. Гинзбург, исследовательница пишет: в 1830-х годах «духовной жизнью Премухина овладела молодежь (после руссоиста Александра Михайловича Бакунина. – И.К.), вдохновляемая старшим братом Михаилом, и Премухино тогда становится средоточием русского романтизма, в частности средоточием романтического культа женственности. Четыре сестры Бакунина становятся предметом этого культа, который поддерживают их братья и товарищи старшего брата, в том числе Белинский, Станкевич, Боткин, Клюшников» (Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. С. 46).
128. ↑ Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. С. 55–56.
129. ↑ Подробнее о жизни Премухино в рисунках, сохранившихся в семейном архиве Бакуниных, можно узнать из воспоминаний Н.А. Шлиппенбаха, потомка одного из младших братьев Михаила Бакунина – Ильи (Или) Бакунина (см.: Шлиппенбах Н.А. Путешествие во времени далеком и близком. http. slippenbach. narod.ru/ notebene1.htm (дата обращения: 02.12.2012); именно Илья заставил волноваться весь кружок Станкевича, когда бежал из гимназии в полк: друзья намеревались заняться его воспитанием, о чем свидетельствует их переписка.
135. ↑ Эта сторона восприятия творчества Тургенева в начале XX в., изменение отношения к нему, в том числе Мережковского, подробно рассмотрены в монографии эстонской исследовательницы Л. Пильд: Пильд Леа. Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900- е годы). Тарту, 1999. С. 17-44. http: // www/rutenia.ru / document / 533713. html (дата обращения: 15.12.2014).
136. ↑ Зайцев Борис. Жизнь Тургенева. С.56.
146. ↑ В этом, по тем временам «эпатирующем» произведении фон Арним существенно подправила свою переписку с Гёте – согласно ее идеалу любви, что обнаружилось в 1923 г., когда была опубликована подлинная переписка.
147. ↑ Деятельность Я. Неверова как инспектора учебных заведений Кавказа и Закавказья освещена в книге историка и краеведа М.С. Коршунова «Избранные работы по истории просвещения на Северном Кавказе», содержащей редкие, впервые публикуемые архивные документы.
148. ↑ Там же. С.89.
151. ↑ Чернов Николай. Спасско-Лутовиновская хроника. С.27. – Во время болезни за ним ухаживала близкая подруга матери А.И. Логривова, родители в это время, как предполагается, нанимали дом в Москве для переезда туда семьи. Логривова отпаивала маленького Тургенева горячим красным вином.
152. ↑ В одной из публикаций относительно недавнего времени особенности нервной системы И. Тургенева связывают с наследственной в его семье эпилепсией, от которой умер младший брат писателя Сергей, отраженно появляющийся в повести. У Ивана Сергеевича предрасположенность к этой болезни, как считают ученые, компенсировалась большой массой мозга (2012 г). К положительным чертам эпилептоидного характера исследователи относят упорство, работоспособность, умение добиваться поставленной цели. См.: Богданов Н., Каликинская Е. (МГУ). Загадка мозга Тургенева // Наука и жизнь. 2000. № 11. См. также: Твой друг и мать Варвара Тургенева.
154. ↑ О психологических аспектах восприятия творчества Шопенгауэра можно вынести представление из знаменитой книги Ирвина Ялома «Шопенгауэр как лекарство» (М., 2006). Преломление идей Шопенгауэра в мировоззрении Тургенева проанализировала в своей статье «И.С. Тургенев – писатель-философ» Регина Нохейль (Тургениана. Вып.2-3.Орел, 1999).
155. ↑ См. статьи Л.П. Гроссмана «Последняя поэма Тургенева («Senilia»)» (с. 233) и «Портрет Манон Леско» (с. 210) в книге 2010 г.
157. ↑ Там же.
158. ↑ Ионас Г. Юлиан Шмидт о творчестве Тургенева. С.283–284.
159. ↑ Подробнее см.: Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. С.71.
160. ↑ Гуно Шарль. Воспоминания артиста. М., 1962. С. 95.
162. ↑ Там же. С.95.
163. ↑ Б. Зайцев, имея в виду тоску по родине, пишет: «Вот уж подлинно – из отдаления лучше он ощутил родину… За три года работы в Париже и Куртавнеле, под крылом Виардо, написал Тургенев пятую часть вообще всего своего творения (имеются в виду большая часть рассказов «Записок охотника», «Дневник лишнего человека», пьесы, среди них «Месяц в деревне». – И.К.) – а работал сорок лет!» (Зайцев Борис. Жизнь Тургенева. С.67). Трактовка личности писателя повлияла и на оценку Зайцевым роли Гуно в его творческой судьбе.
164. ↑ Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. С.222.
166. ↑ Подробнее см.: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. С.20.
167. ↑ Варвара Петровна считала, что даром слова обладал и ее муж Сергей Николаевич, в одном из писем младшему сыну она писала (на фр.): «Ваш брат обладает даром слова, как и ваш отец» (Твой друг и мать Варвара Тургенева. С.70).
168. ↑ И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т.1. С.196.
173. ↑ Подробнее см.: Врангель А.Е. Из «Воспоминаний о Ф.М. Достоевском в Сибири» // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т.1. М., 1964.
174. ↑ Лотман Л.М. Драматургия Тургенева. С. 556.
176. ↑ О взаимовлияниях см. также: Архангельская Т.Н. Несколько слов о тургеневских нитях в «ткани» романа Л.Н. Толстого «Война и мир» // Спасский вестник. 1999. № 5.
177. ↑ Лотман Л.М. Драматургия Тургенева. С.557.
178. ↑ Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. С.289.
180. ↑ Теория и практика шахматной игры /под ред. Я.Б. Эстрина. М., 1984. С.18.
181. ↑ Подробнее о Тургеневе – шахматисте см.: Коган М. Шахматы в жизни русских писателей. М.; Л.,1933. См. также публикацию В.А. Трубицина, популяризатора знаковых игр: Санкт-Петербург в истории знаковых игр. http:// www.fishka.spb.ru / articles / history/ spb / 21.htr (дата обращения: 02.01.2015). – И.С. Тургенев был членом Петербургского общества шахматистов, один из организаторов которого Д. С. Урусов, его хороший знакомый, обыгрывал знаменитого И. Шумова. Тургенев также играл с И. Шумовым и другими выдающимися шахматистами. В библиотеке Тургенева сохранились книги по шахматам с разобранными партиями, комплект лондонского шахматного журнала «The Chess Players Chronicle» за 1853 г. с его пометками. Тургенев внимательно разбирал многие партии И. Альгайера, имя которого упоминается в повести «Несчастная». По свидетельству Е.Я. Колбасина, после удачной партии он любил говорить: «Нет, положительно мое призвание быть не литератором, а полководцем».
188. ↑ Лотман Л.М. Тургенев, Достоевский и литературная полемика 1845 года. С.19.
189. ↑ Зайцев Борис. Жизнь Тургенева. С.67.
191. ↑ См., напр.: Рейнфилд Дональд. Жизнь Антона Чехова / пер. с англ. Ольги Макаровой. М., 2011.
192. ↑ Речь была произнесена 10 января 1860 г. на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым.
194. ↑ Подробнее см.: Шарыпкин Д.М. «Стихотворения в прозе» и скандинавские писатели // Тургеневский сборник. Т. V. Л., 1969. С. 318–319.
195. ↑ Там же. С.327–328.
196. ↑ Там же. С.327.
197. ↑ Подробнее см.: Пильд Леа. Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы).